13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. Сократ
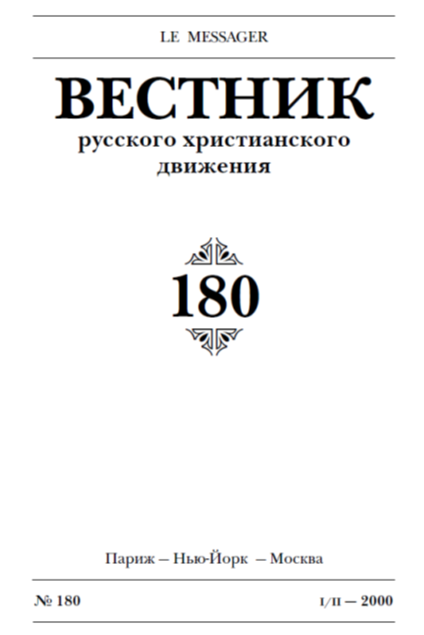
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Лев Шестов
СОКРАТ*
(из лекций по древней философии)
Итак, нет ни объективной истины, нет добра, нет богов. Человек предоставлен самому себе. Его законы — это его личные желания. Понятно, к какой распущенности нравов вели такого рода теории. Софисты, в конце концов, ценили только риторику, т. е. искусство доказывать, что то, чего тебе хочется, есть должное и нужное, и эристику т. е. искусство спорить. Декаданс нравов сказался в декадансе и науки, и философии, и этики, и религии. И, наоборот, декаданс в философии и религии отражался на упадке нравов. Нужна была сила необыкновенная, чтобы вывести молодую еще науку на новый, прочный путь и остановить так быстро развивавшееся разложение творчества. И, как это часто бывало в истории, в нужный момент явился нужный человек. Этим человеком и был Сократ, с которого для эллинской философии, а стало быть и для философии вообще, начинается новая эра.
* * *
К описанию жизни и к изложению учения Сократа мы и перейдем сейчас. Говорить об учении Сократа, не рассказав о его жизни, нельзя: так у этого человека его жизнь была связана с его философией. К сожалению, однако, мы не слишком много знаем о жизни Сократа и все, что мы знаем, относится к последним десятилетиям его существования и деятельности. Главные сведения о нем дают нам его ученики Ксенофонт и Платон и ученик Платона — Аристотель. У Ксенофонта есть специальное, посвященное воспоминанию о Со-
* Глава из готовящегося к печати курса лекций «История греческой философии», который Л. Шестов читал в Народном университете Киева в зимний семестр 1918 — 1919 гг.
116
крате сочинение «Memorabilia» («Воспоминания») и «Апология Сократа»; у Платона есть “Апология Сократа”; Аристотель говорит больше о его учении, чем о жизни. Затем, во всех сочинениях своих, изложенных в форме диалогов, т. е. беседы нескольких лиц, Платон всегда выводит Сократа. В «Федоне» же специально рассказывается о том, как провел свои последние часы Сократ, как умер и что говорил он своим ученикам и друзьям перед смертью. «Апология» же описывает довольно подробно процесс Сократа и, главным образом, его защитительную речь. Конечно, и позднейшие писатели, римские и эллинские, говорят о Сократе, но их сведения отрывочны и не слишком достоверны, так что главным источником нашим, из которого мы добываем данные о жизни и учении Сократа, оказываются Ксенофонт, Платон и Аристотель. Но и тут мы наталкиваемся на большие трудности. Сократ Ксенофонта оказывается не очень похожим на Сократа Платона. Так что в философской литературе много спорили о том, на какого из биографов можно больше положиться. С одной стороны, Ксенофонт, казалось бы, должен был быть беспристрастнее и правдивее, т. к. он не был самостоятельным философом и его нельзя заподозрить в том, что он приписывал Сократу свои собственные мысли. Но, с другой стороны, есть все основания думать, что Ксенофонт именно потому, что не был философом, мог слишком элементарно и плоско понимать своего учителя. И это предположение тем более заслуживает внимания, что, если принять, что Сократ действительно был только таким, каким его изображает Ксенофонт, то его всемирно-историческое значение было бы совершенно необъяснимо. Сократ — одна из самых колоссальных фигур, которые знает человечество, и Д. С. Милль нисколько не преувеличил, когда сказал: «Люди никогда не должны забывать, что между ними был когда-то мудрец, который назывался Сократом». Но, с другой стороны, вполне возможно, что Платон представил нам своего учителя в очень субъективном освещении. Передают, что когда Сократ прослушал первые диалоги Платона, написанные еще при его жизни, он воскликнул: «Сколько этот юноша налгал на меня». Конечно, если это и верно, если Сократ и произнес приведенные выше слова, это все-таки не значит, что нельзя полагаться на свидетельство Платона. Возможно, что сам Сократ не умел или не хотел видеть в себе много такого, что Платон верно подметил в нем. Так или иначе, но, повторяю, ученые люди много и долго спорили о том, где можно увидеть настоящего Сократа, — у Платона или у Ксенофонта. В конце концов, наиболее авторитетные историки все-таки склонны были изображать Сократа главным образом по Платону, и к этому мнению нельзя не присоединиться.
118
Родился Сократ приблизительно в 469 г. до P. X. Происходил он из бедной семьи. Отец его был ваятелем и назывался Софрониском; мать была повивальной бабкой — ее имя Фэнарета. Его молодость и первые годы возмужалости совпадают с самым блестящим периодом истории Афин. Он был младшим современником всех тех знаменитых людей, которые выдвинулись в годы правления Перикла; и хотя бедность и скромное происхождение мешали ему сразу найти доступ в лучшее общество, но в тогдашних Афинах даже самый последний гражданин не был лишен возможности принимать участие в культурной жизни страны. Что же касается Сократа, то он, в конце концов, даже бывал в доме Перикла, где встречался и с философом Анаксагором, и с Зеноном, и с ваятелем Фидием, и с трагиком Софоклом. Такое общение с выдающимися людьми в то время было лучшей и единственной школой высшего образования, ибо систематическое преподавание еще, как мы знаем, тогда не существовало: школы софистов стали открываться тогда, когда Сократ был уже законченным в своем развитии человеком. Во всяком случае, из общения с людьми образованными, а, может быть, путем чтения он приобрел те познания, которые ему нужны были для философской работы. Несомненно, он был знаком с учением Парменида и Гераклита, атомистов, Анаксагора, Эмпедокла.
Вероятно, от отца он перенял и искусство ваятеля, хотя нет данных думать, что он сделал это своим занятием. Но, по-видимому, еще в молодости он почувствовал, что его призвание — искать истину и помогать людям совершенствоваться. И он так глубоко и искренно верил в свое призвание, что даже на суде в своей защитительной речи прямо говорил, что Сам Бог избрал его для этой цели. Как известно, и дельфийский оракул впоследствии признал Сократа мудрейшим из людей — так что субъективное убеждение его получило, хотя и поздно, объективное подтверждение. Жил Сократ в бедности, и семейная жизнь его была не из веселых — с такой женой, какой была по изображению всех, писавших о ней, Ксантиппа — вероятно, вы о ней слышали достаточно. Но Сократ умел спокойно выносить и нужду, и семейные невзгоды, т. к. все его помыслы менее всего были направлены к житейски приятному и веселому. Он стремился подражать богам в нетребовательности. И, в самом деле, ему так мало нужно было, что он фактически никогда ни в чем не нуждался. Потому он все силы свои отдавал ближним, никогда не брал денег со своих учеников и вместе с тем никогда не был озабочен завтрашним днем.
В политической жизни страны он не принимал никакого участия, но вместе с тем никогда не покидал своего родного города, кроме тех случаев, когда того требовал от него долг пред отечеством: когда
119
нужно было, он принимал участие в походах и был образцовым воином, всех поражавшим своей выдержанной смелостью, спокойствием и самообладанием. Как гражданин, он, когда приходилось, проявлял ту же неустрашимость, какую проявлял и на войне. Как учитель, он был прямой противоположностью софистам. Не только, как я уже говорил, он не брал денег с учеников своих, но даже не называл себя учителем. Его любимым изречениям было: «Я знаю, что ничего не знаю». С этого он большей частью начинал свои беседы, которые, на первый взгляд, совсем не носили учительского характера. Даже наоборот, он всегда просил всех, вступавших с ним в разговор, научить его чему-нибудь. И только, когда выяснялось, что собеседник, хотя и взялся научить, на самом деле сам очень мало знает, Сократ, обыкновенно, наводящими вопросами помогал ему придти к правильному выводу. В этой манере Сократа и скрывалась та его ирония, о которой столько говорили. Сократ же считал себя унаследовавшим от матери, которая была повивальной бабкой, искусство акушера. Мать помогала женщинам рожать людей; Сократ считал, что он помогал всем людям рождать истину (Теэтет 150 в).
Метод его, собственно говоря, заключал уже в себе ту диалектику, создание которой приписывают Платону. Сократ готов был беседовать, когда угодно, где угодно и с кем угодно. Обыкновенно поступал так: встретятся ему на площади, в гимназии, на рынке, в мастерской ремесленника какой-нибудь человек — простой или знатный, образованный или необразованный, афинянин или чужестранец — если только он покажется почему-либо хоть сколько-нибудь интересующимся философией, Сократ ему предлагает самый обыкновенный вопрос. Зачем ты сюда приехал, чем ты занимаешься, какое сейчас у тебя дело? Затем, постепенно, Сократ отстранял все, имеющее частный характер, и сосредоточивал свое внимание на общих вопросах. Например, он спрашивает человека: куда ты идешь? Тот отвечает: в суд. Зачем в суд? С жалобой. На кого жаловаться? На отца. За что? За то, что тот убил раба. Значит ты хочешь, чтобы наказали отца? Да, хочу. Почем)'? Потому что виновных наказывать хорошо, а оставлять без наказания дурно. Значит ты знаешь, что такое хорошее и что дурное? Знаю. Таким образом, Сократ приходит к вопросу о добре и зле и заставляет своего собеседника обсудить самый общий вопрос, доказывая ему, что если у человека нет прочих общих принципов, то в отдельных случаях частные вопросы он решает на авось. И вот это стремление найти среди бесконечного числа отдельных принципов нечто общее, стремление, которое обнаружила, как мы помним, эллинская философия уже на заре своего существования, с особой силой сказалась в Сократе. Он требовал от
120
себя и людей, прежде всего, сознательного отношения к жизни. Он всегда напоминал людям надпись, красовавшуюся на дверях храма Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». И всегда, во всех его беседах, как с самыми выдающимися учеными и государственными людьми, так и со скромными, никому не известными гражданами, выяснялось, что никто не хочет и не умеет выполнить заповедь дельфийского бога. Все предпочитают в своих решениях и поступках руководиться либо непосредственными склонностями, либо освященными обычаем правилами поведения.
Сократ беспощадно обнаруживал во всех людях их слабую сознательность и боязнь мысли. Это одних — более прямых людей — очаровывало, других — самолюбивых — раздражало. Так что νСократа было много друзей, но и не мало врагов. Сам Сократ, как я говорил, был убежден, что он выполняет высокую миссию, возложенную на него Богом. Он чувствовал сильнее кого-либо другого, как разрушается, под влиянием в особенности учения софистов, крепость, сила его отечества, как разлагаются нравы и как даже лучшие из афинян постепенно опускаются до уровня обычных прожигателей жизни. И он со всей своей исключительной энергией боролся с софистами и пытался противопоставить их учению о преходящей истине свое учение о вечной и неизменной, о Божественной истине. Афины спасти Сократу не удалось. Современники не только не поняли высокой миссии Сократа, но приняли его самого за вредного и опасного чудака и, в конце концов, выставили против него обвинение в том, что он не признает богов и развращает юношество. И не только выставили это обвинение, но и осудили Сократа и приговорили его к высшему наказанию, сопричислив его к злодеям, и казнили в 399 г. до P. X. Но если Сократу не удалось спасти своей страны и если его не услышали и не поняли современники, то потомство вполне оценило его, и тот, кто не мог стать учителем в своей стране, стал пророком для всего мира. Ведь нет теперь ни одного хоть сколько-нибудь образованного человека, который бы не слышал о Сократе, не чтил и не удивлялся ему.
Теперь перейдем к изложению учения Сократа. Но прежде необходимо сказать несколько слов о так называемом «демоне» Сократа. Я уже говорил вам, что Сократ был убежден в том, что Сам Бог возложил на него высокую и ответственную миссию учителя человечества. И он был уверен, что Бог, который открывает другим людям Свою волю через оракула, ему сверх того открывается еще в сновидениях и затем при посредстве некоего особенного, только одному Сократу доступного, демона. Что такое этот демон? Древним этот вопрос не казался таким смущающим. Они верили и в оракула, и в
121
вещие сны, и в гадания по полету птиц и внутренностям жертвенных животных — им казалось естественным и возможным общение Сократа и с неким таинственным демоном. Но для нового времени такого рода верования стали совершенно неприемлемыми. Как же понять нам то, что согласно рассказывают о демоне Сократа и Платон и Ксенофонт? Вокруг этого вопроса разгорелся страстный спор. Некоторые доходили до того, что готовы были видеть в Сократе душевно больного. Само собой разумеется, что такое объяснение, несмотря на его простоту, должно быть признано совершенно несостоятельным. Как можно допустить, чтобы человек, которого не только древний оракул, но и весь мир признал мудрейшим из людей, был душевно больным. Это равносильно тому, чтобы признать, что весь мир сошел с ума. Наиболее вероятным нужно считать объяснение, которое предложил в начале XIX столетия Шлейермахер. По его мнению, демон Сократа не был личностью или существом, а был внутренним голосом совести. И действительно? ни Платон, ни Ксенофонт собственно не говорят ничего такого об общении Сократа с демоном, что дало бы право нам считать демона за живое существо. Они говорят только о предостерегающем голосе демона, который то запрещает, то советует Сократу что-либо делать. Большей частью именно запрещает и редко дает положительные советы. Причем удивительно, что демон не раз вмешивается и в дела совсем незначительные, но наряду с тем и в вопросах первостепенного значения подает свой голос. Так, например, демон запретил Сократу принимать участие в политической борьбе афинских партий, он же запретил ему подготовить защитительную речь по обвинению, предъявленному Сократу.
Что же такое этот демон? Гегель на своем странном для непривычных людей языке дает, кажется, наиболее удачный ответ: «Гений Сократа не есть Сократ сам; это есть оракул, который, однако находится не вне Сократа, но в нем самом, есть его субъективное, есть его оракул. Этот оракул принял образ знания, которое связано с некоторой бессознательностью». И это верно. Греки в сомнительных и трудных случаях имели обыкновение отправлять послов в Дельфы и просить Пифию дать нужный ответ. У Сократа его оракул был в нем самом — и его задача была не уходить от себя, не искать ответа вне себя, а углубиться в себя и в себе самом найти ответ. Это самоуглубление есть характернейшая черта Сократа. Платон передает, что Сократ мог до такой степени погружаться в себя, что иногда простаивал целый сутки на одном месте, ничего и никого не видя и не замечая. Его способность прислушиваться к внутренним голосам своего еще неосознанного «я», может быть, и была залогом успешности его
122
философского делания. Последнюю вечную истину он искал не вне себя — ни в преданиях и заветах предков, ни в решениях оракула, ни в обычаях — а в первоисточниках, в скрытых тайниках своей человеческой души. Это больше всего поражало, раздражало и отталкивало его современников, это и было причиной его разрыва с обществом, это его и привело к тюрьме и казни. Греки, несмотря на все свое свободолюбие, не могли постичь последней и высшей идеи, принесенной с собой Сократом, — о свободе человеческой души. За эту идею и погиб Сократ, но идея эта восторжествовала и до настоящего времени господствует, если не в практической жизни, то в философии. И с этой идеей связано все философское учение Сократа.
Нечего и говорить о том, что такого Сократа вы найдете не у Ксенофонта, а у Платона. Ксенофонт нам изобразил Сократа только как необыкновенно честного, бескорыстного, смелого и искреннего морального проповедника, отдавшего свою жизнь на борьбу с софистами, вносившими своими идеями разложение и в без того разложившееся общество. Все это правда, конечно. Сократ больше всего в мире ненавидел распущенность и всегда с ней боролся. Но менее всего проповедями. Можно сказать вместе с историком Целлером: «По Ксенофонту, можно придти к заключению, что для Сократа всякое познание имело лишь цену постольку, поскольку оно является средством для практического (нравственного) делания; на самом деле, Сократ тогда лишь ценил всякое делание, когда оно исходило из правильного знания, всякий нравственный поступок он сводил к познанию и ставил совершенство моральное в полную зависимость от познания». Так что значение Сократа не в том, что он проповедовал добро — таких моралистов было в Греции и без него достаточно: мы знаем, что даже Протагор учил своих учеников тому, как стать лучшими, тем же занимался и знаменитый Аристофан — задача Сократа была в том, чтобы научно обосновать идею добра, я бы сказал еще сильнее: Сократ первый в философии задался целью показать, что добро есть истина и что истина есть добро. Об этом он размышлял, когда простаивал, забывая всех и все, по 24 часа на одном месте, ради этого он отказался от всех житейских благ, это же дало ему силы и мужество выпить так спокойно и с таким достоинством поднесенную ему тюремщиком чашу с ядом и даже принять насильственную смерть как дар богов. И в этом основа философии Сократа и, конечно, его великого ученика Платона.
Приведу вам одно любопытнейшее место из «Апологии» Платона. Я говорил вам уже, что Сократ ничего не писал и что его жизненное дело сводилось только к собеседованию с людьми и к размышлению, которое у него, как и у Платона, было тоже неслышной
123
беседой души с самой собой. Сократ беседовал со всякого рода людьми — и с простыми, и со знатными, и с учеными, и с неучеными. Всех выспрашивал, всех выслушивал. Можно сказать, что он был странником по человеческим душам. И странствуя так, он пришел к поэтам. И вот, говорит он в своей «Апологии»: «Я узнал, что они делают то, что делают, не по мудрости, а как-то по природе, в припадке вдохновения, словно они бы пророчествовали или колдовали. Они говорят много прекрасного, но они сами не знают, что они говорят». Так и сказано: καὶ γὰρ οὐ τοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά ἰσασι δὲ οὐδὲν ὠν λέγουσι (Apologia 22 в; Zeller II-1, 93).
Вы видите, что для Сократа недостаточно, чтобы люди шли по правильному пути и делали то, что нужно делать. Он хочет, чтобы они знали, что они делают, он хочет, чтобы они владели всей полнотой истины. И чтобы к истине они стремились не инстинктивно, как это делали прежде или делают вообще поэты, а сознательно. Ибо главное в жизни есть истина и знание. Больше того, самая сущность жизни есть истина. И если Гегель был прав, что Сократ нашел оракула не вне себя, а в себе, то с еще большим правом можно сказать, что истину, которую большинство людей, как и оракулов, искали где-то во внешнем мире, Сократ нашел в глубине человеческой души. Оттого-то у него истина не может быть отделена от добра и добро — от истины. Добро у Сократа есть любовь к истине, а не готовность и способность человека жить и питаться только телесными благами. Из новейших писателей в этом смысле ближе всего к Сократу выразил ту же идею Спиноза в своей столь прославленной формуле: amor intelectualis Dei — познавательная любовь к Богу, ибо у Спинозы, как и у Сократа понятия Бога и Истины совершенно сливаются. И, вообще, идеей Сократа о тождестве истины и добра проникнуты все дальнейшие философские системы. Ее труднее всего постигнуть, до такой степени она не мирится с нашими обычными представлениями. Обыкновенно думают, что истина — сама по себе, добро — само по себе, и, в лучшем случае, готовы вслед за Ксенофонтом признать, что истина есть средство для осуществления добра. Но с Сократа начинается поворот в философии и именно в том смысле, что философия становится не просто учением, а как бы новой, особенной жизнью. Поэтому не прав Цицерон, когда он, совсем в духе Ксенофонта, говорит, что Сократ свел философию с об-
124
лаков и привел ее на площади, во дворцы, в дома и хижины. Как раз наоборот: Сократ увел философию с площадей, из хижин и дворцов, показавши, что есть иной, высший, горний мир — мир добра, истины и красоты — и что этот мир уготован не только для богов, но и для тех людей, которые умеют очистить свои души от тяжести земных страстей и вожделений. Путь же — очищение, по Сократу, — один: знание, наука. Наука и знание, по Сократу, перерождают человека. Мы знаем, что и предшественники Сократа стремились к познанию. Но Сократ первый поставил вопрос о научном методе и об условиях совершенного познания. И первый установил принцип, что истинное познание — это только такое познание, которое исходит из верных общих понятий, что ничего мы не можем познать иным способом, как путем сведения к общему понятию.
Напомню вам уже однажды приведенный пример, которого повторять не буду и прибавлю еще новый. Сократ спрашивает, что лучше: претерпеть самому обиду или обидеть другого человека. Собеседники его приводят всякого рода соображения: одни за то, что лучше самому быть обиженным; другие за то, что лучше обидеть. Сократ же путем целого ряда вопросов приводит всех беседовавших к убеждению, что их решения, прежде всего, ни на чем не основаны, а затем и показывает, что до тех пор, пока мы не будем иметь общего понятия о том, что лучше, что хуже, т. е. что такое добро и зло, все отдельные и частные вопросы мы будем разрешать произвольно и на авось. Случайно можем придти и к правильному решению, но вернее всего запутаемся и уже несомненно не будем иметь прочной неизменной, вечной опоры для этого и ему подобных случаев. И вот в этом принципе, по которому истинное знание должно исходить из общих понятий — хотя он представляется на вид столь простым — таилась коренная реформа научных приемов. Обыкновенное сознание принимает вещи такими, какими они нам даются в непосредственном восприятии. Прежние философы не были в силах порвать совершенно с привычками обыкновенного сознания. Они понимали и признавали, конечно, что чувственные впечатления обманчивы, и стремились избежать этого обмана чувств, но они не могли придумать принципа и метода, которые бы обеспечивали им познание сущности вещей, и принуждены были наиболее сильное и наиболее постоянное впечатление выдавать за познание сущности вещей. Тут-то беспощадная критика и скептицизм софистов оказывались уместными: софисты доказали и заставили признать всех, что данные чувственных впечатлений субъективны и относительны, что они нам показывают вещи не такими, как они есть, а такими, как они кажутся, и что действительно мож-
125
но παντὶ λόγον ἀντικεῖσθαι(Clem. Strom-VI, 64 7А; Zeller I, 99) — противопоставить всякому утверждению утверждение противоположное, ибо одному человеку кажется верным одно, другому — другое, и даже одному и тому же человеку в разное время одно и то же кажется разным. В этом пункте Сократ принимает целиком учение софистов. Его критика обычных суждений даже еще беспощаднее и разрушительнее, чем критика софистов. Но тут и кончается сходство. Софисты успокаиваются на своем релятивизме, ибо истины им не нужно, а релятивизм, как мы знаем уже, дает наибольшую возможность и свободу угождать мелким человеческим пожеланиям.
Задача Сократа — иная. Он разрушает обычные представления не затем, чтобы доказать, что истины нет и не может быть, а только затем, чтобы показать, что в них нет истины и что истину нужно искать в ином месте. Большинство людей принимает на веру разного рода предпосылки, истинность которых они доказать не умеют, и впадают в односторонность, которая есть худший вид лжи и заблуждения. Нужно освободиться от вкоренившихся в нас предрассудков, нужно найти действительную сущность вещей вместо недоказанных и недоказуемых предубеждений — для этого нужно каждый предмет рассмотреть со всех сторон и таким образом постичь его истинную сущность. Таким образом, вместо неопределенных и колеблющихся представлений мы получим точные, резко очерченные понятия, вместо беспорядочного угадывания — научное исследование, вместо воображаемого, мнимого знания — настоящую истину. Этими требованиями Сократ бросил вызов не только обывательской манере мышления, но и всем приемам прежнего научного мышления. Сократ впервые вводит принцип настоящего научного, методического всестороннего исследования и с него, можно сказать, берет свое начало европейская наука.
Такое же прочное основание, какое получила от Сократа наука, получила у него и этика. И в этом деле нельзя не признать, что софисты оказали Сократу хотя и отрицательную, но чрезвычайно ценную услугу: чем больше они подрывали ходячие мнения и верования, тем больше выяснялась Сократу вся важность и все великое значение взятой им на себя миссии. Он ясно видел, что к старому вернуться нельзя. Время наивного, доверчивого отношения к обычаю и заветам предков ушло безвозвратно. Софисты проповедовали сомнения, возводили его в философский принцип. Но и не софисты — обыкновенные люди, та молодежь, которая готова была отдавать свои последние деньги за право и возможность получить «высшее образова-
126
ние» в школе Георгия и Протагора — она и сама уже ни во что не верила. Сократ, повторяю, все это видел и понимал. И ясно сознавал, что одной проповедью уже невозможно справиться с новыми запросами. Нужно искать иных способов борьбы. И с той гениальной проникновенностью и с той смелостью, которая свойственна бывает великим людям, Сократ решился увидеть в моральном скептицизме софистов не только раздражающее пустословие, но и законный, подлежащий ответу вопрос. Конечно, говорил он, софисты правы. Все наши прежние верования, убеждения, моральные принципы держались только привычкой. В этом я не только соглашаюсь с софистами, я готов еще идти дальше их. Но следует ли из того, что ваши предки заблуждались, выводить, что добра нет и быть не может?! Тут и начинается расхождение Сократа с софистами. Не только не следует — но следует противоположное. Раз наши предки заблуждались, и заблуждались в том, что важнее и ценнее всего в мире, из этого только следует, что мы с еще большим напряжением и самоотвержением должны искать правды. Прежде не нашли — найдут после. Прежде не умели найти истинного понятия о добре, — значит судьба возложила это большое и неотложное дело на нас.
Таким образом, Сократ стал великим реформатором не только в области науки, но и в области морали. «Его заветная мысль состояла в том, чтобы укрепить расшатанные устои нравственной жизни при посредстве науки. И для него наука и нравственность так тесно слились в одно единое, что он сделал жизнь единственным предметом своего изучения и, наоборот, в науке видел весь смысл и все содержание жизни». И нужно сказать, что, несмотря на частые попытки следующих поколений философов разъединить эти две области, все-таки до настоящего времени они фактически остаются слитыми. Наши понятия о задачах и содержании нравственности и сейчас, как после Сократа, целиком определяются нашими понятиями о задачах науки. Даже христианство в этом отношении не только не могло победить влияние Сократа, но всецело подчинилось ему. Вы знаете, как начинается 4-е Евангелие: Ἐν ἀρχη ἠν ὁ λόγος — в начале было Слово (λόγος). Учение о слове-разуме (по-гречески λόγοςзначит и «слово», и «разум») в зародыше уже заключает в себе философию Сократа. И он уже учил о творческой роли разума. И, если говорят так много об эллинизации христианства, то это, собственно, значит, что христианство приняло в себя все основные элементы философии Сократа. И, главным образом, его столь парадоксальное на вид положение, что добродетель состоит в знании.
127
На этом мы остановимся несколько подробнее, так как это положение истолковывается не всеми одинаково. Большей частью понимают это в том смысле, что, увлеченный борьбой с софистами, Сократ все знание сводил к знанию о добродетели, что для него знание было только средством, а целью была добродетель. Некоторые даже склонны видеть в Сократе защитника утилитарной и эвдаймонистической точки зрения, т. е. такой точки зрения, которая стремится добродетель и нравственность свести к пользе и удовольствию.
Главный материал для таких суждений дает, конечно, не Платон, а Ксенофонт. У Ксенофонта мы, действительно, встречаем целый ряд указаний, которые дают основание так судить о Сократе. По приведенным у него образцам бесед Сократа можно думать, что Сократ задавался целью не выяснить, я бы даже сказал, открыть людям, в чем сущность добра, а только научить их, как жить добродетельно, словно они бы уже знали, в чем добродетель. Так что получается, будто бы Сократ, заодно со своими предшественниками, исходил из обычных, освященных традиций, суждений о добре и зле и только учил, как в отдельных частных случаях успешно применять завещанные людям их предками правила нравственного поведения. Но если полагаться на Ксенофонта, то мы, пожалуй, придем и к тому заключению, что Сократ разделял релятивистическую точку зрения софистов, ибо у Ксенофонта рассказано, что, когда Сократа спросили, бывает ли какой-либо поступок сам по себе хорош, независимо от какой-нибудь определенной цели, которую поставляет себе человек, то Сократ ответил, что он не знает и не хочет ничего знать о таком добре, которое было бы ценно само по себе, что одно и то же при одних обстоятельствах может быть хорошим, при других — дурным. У Ксенофонта же Сократ отожествляет хорошее с полезным, прекрасное с пригодным. Так что масштабом для дурного и хорошего оказывается полезное и вредное. Мы должны быть, учит Сократ у Ксенофонта, воздержанными, потому что воздержанные живут приятнее; мы должны закалить себя, потому что закаленный человек крепче здоровьем, ему легче бороться с опасностями и он имеет больше шансов добиться славы и почестей; мы должны быть скромны, потому что верный друг всегда спасает и поможет в беде и т. д. — у Ксенофонта много такого рассказано. Но, повторяю, если Ксенофонт и точно передает слова Сократа, очевидно, что он передает лишь беседы Сократа с начинающими, которых он только подготавливает к восприятию своего учения. Вернее однако, что Ксенофонт сам упростил философию своего учителя соответственно нуждам и запросам своей собственной души, еще не дерзавшей восходить вслед за учителем на последние
128
вершины мудрости. У Платона мы ничего подобного не встречаем — даже в его юношеских произведениях, в которых он, по общему признанию, старался как можно более точно излагать учение Сократа. Даже в «Эвтифроне», «Критоне» и «Апологии» Платона Сократ предстоит перед нами во весь свой гигантский рост. В «Эвтифроне» Сократ ставит такой вопрос: потому ли добро хорошо, что его любят боги, или боги потому любят добро, что оно хорошо (Эвтифрон 10 а). И отвечает в том смысле, что и боги не могут не любить добра, ибо закон добра есть высший закон, которою’ подчиняются все разумные существа — не только люди, демоны, полубоги, но и сами боги. И тут очевидно, что если добро есть высший закон, стоящий даже над богами, то его никоим образом нельзя вывести из обычных нужд человеческих. Как раз наоборот — по существу понятия добра люди должны забыть обо всех своих нуждах и заботах, пренебречь всем тем, что обычно считается ценным, и поставить себе одну задачу, такую же, какую себе поставил Сократ — приобщиться к этой высшей идее и, подчинившись закону, воспарить на ту высоту, где становится возможной настоящая жизнь. И если Сократ утверждал, что знание и добродетель — одно и то же, то отнюдь не в том смысле, какой этому утверждению приписывал Ксенофонт, т. е. что знающий человек знает, как удобнее и приятнее устроиться на земле. Мы уже видели, что Сократ и сам менее всего умел «устраиваться» и едва ли бы стал он учить других тому, чего и сам не знал. Сократ и жил и умер как подвижник и мученик — и ни в жизни, ни в смерти его не было ничего, чем могли бы соблазниться ищущие устройства и благополучия.
Сократ отличался от других людей именно тем, что он знал какую-то иную жизнь, более ценную и значительную, которую он считал предметом последних стремлений для человека. И это знание он, конечно, имел все права и полное основание считать добродетелью, ибо оно так же мало было похоже на обычное знание, как и добродетель Сократа на ту добродетель, которую нам изображал Ксенофонт. Если Сократ был первым, который понял, что знание есть знание общего, то он же был первым, который установил, что закон добра властвует и над людьми, и над богами. И что, стало быть, высшая истина, последнее добро и вечная красота не в том видимом и осязаемом мире, который постигается поверхностным знанием. И добро не в слепом следовании обычаям и заветам старины. Вечное скрыто от людей, но к вечному и только к вечному стремится человек. Поэтому Сократ считал, что несправедливость есть болезнь души и что наказание есть лекарство для несправедливого. Только излечившись путем очищения (κάθαρσις) и
129
искупления, душа обретает ту легкость и те силы, которые нужны, чтобы проникнуть в мир нетленной истины, высшего добра и непревзойденной красоты. Этому учил Сократ, и это его учение постиг и развил в грандиозную систему его великий ученик Платон. Последние слова из защитительной его речи были таковы: «Но нам уже пора расходиться; вам (т. е. судьям) — чтобы жить, мне — чтобы умереть. Кого из нас ждет лучшее — это неизвестно никому, кроме Бога». В «Федоне» — знаменитом диалоге Платона — как я вам уже говорил однажды, Сократ объяснил ученикам своим, что величайшая и последняя тайна его философии в том, чтоб научиться умирать и умереть. Смерть даже казалась Сократу даром богов (Федон 64 а). И был прав, конечно, Платон, заканчивая свой рассказ о последних часах Сократа: «Вот как умер лучший, самый мудрый и самый справедливый из людей» (Апология 42 а). То, что сказал о Сократе Платон, стало и приговором истории о нем.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
