13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Соловьев А.С., профессор
Соловьев А.С., проф. Религиозные основы русской культуры в изображении современных западно-славянских писателей
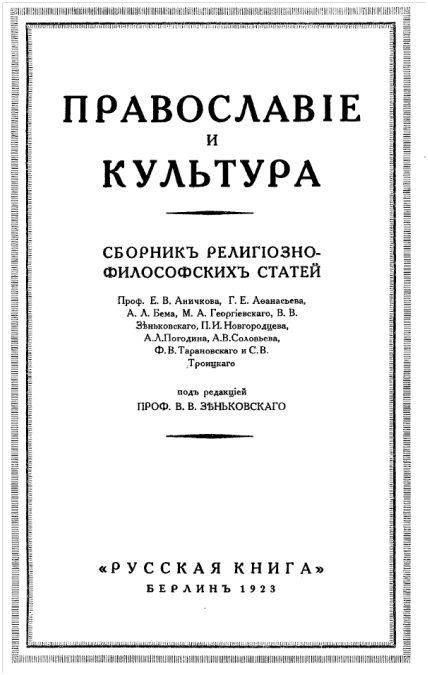
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
проф. А. С. Соловьев
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНО—СЛАВЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Последние годы поставили перед нами во всем объеме одну из наименее разработанных социальных проблем — проблему своеобразия каждой национальности. Обострение национального чувства, национального пафоса и национальных антагонизмов во всей Европе (и во всем мире) заставляет многих мыслителей задуматься над вопросом, чем же определяются особенности каждой национальной культуры, признаки, объединяющиеся в несколько расплывчатом понятии «народной души».
Может быть, наиболее глубокие и обобщающие мысли по этому поводу, по анализу самого понятия «национализма» высказаны Рабиндранатом Тагором в его книжке «Национализм».
Но из богатой литературы по национальному вопросу, выросшей в военное и послевоенное время, мы остановимся только на некоторых иностранных писателях, затронувших эту проблему в отношении к русской национальности и русской культуре.
Наиболее серьезными из этих книг, часто написанных в пылу военного ожесточения, столь мешавшего научной объективности, являются две книги, написанные по-польски, и одна — по-немецки.
Они не равноценны ни по именам авторов, ни по научному методу, ни по результатам оценки. Но у них есть общая черта. Все они отводят главное, основное место в объяснении особых черт русской культуры, русской народной души — ее религиозным основам, всему своеобразию православия, как особого культурно-исторического типа христианства.
С этой точки зрения все эти три книги должны нас заинтересовать.
Начнем с польских книг. Обе они принадлежат перу двух крупных ученых. Известный Львовский историк проф. Станислав Кутшеба озаглавливает свою книгу: «Противоположности и источники польской и российской культуры». *) Еще более
*) Stanislaw Kutzeba. Przecwiénstwa i zródla polskiej i rasyjskiei kultury. Lwow. 1916, pag. 83.
197
известный нам Краковский профессор Мариан Здеховский, автор работ о русском, польском и славянском мессианизме, выпускает в 1920 г. сборник статей под заглавием: «Российские влияния на польскую душу». *)
Казалось бы именно, что от этих двух авторов, сыновей соседнего, близкого, братского народа, связанного с нами столь тесно долгими историческими судьбами, можно было ожидать наибольшего проникновения в область родственной им русской души и русской культуры.
Но данные книгиоставляют в нас чувство сильного разочарования в степени и возможности понимания нас ближайшими соседями нашими и братьями. Слишком много горечи, слишком много яду внесено историей в мартиролог польско-русских отношений, в тысячелетнее всегда насильственное сожительство. Нет страшнее и глубже ненависти, чем если она возгорится между родными братьями, говорит мудрая сербская пословица.
И обе разбираемые книги, к сожалению, подтверждают ее. Выпущенные в свет в годы обострения русско-польских отношений (одна в 1916 г. в год активного выступления легионов Пилсудского против России, вторая в 1920 г. — перед походами Пилсудского на Киев), они не дают того беспристрастия, которого мы могли бы ожидать от них по почтенным именам их авторов. Вместо того, чтобы указать черты славянской общности в русской и польской душе (так ведь поступал когда-то сам же М. Здеховский в своих первых книгах), они оба заостряют противоположность между русской и польской культурою, полярность этих культур, известную их враждебность.
Книга Кутшебы — ответ на заданный автором самому себе вопрос: «чем объяснить наследственность вражды, антагонизм между Польшей и Россией, который длится столько веков, несмотря на общность славянской крови?» (вступление). Именно антагонизм между русской и польской душой, по мнению Кутшебы, и является основным фактором их отношений. Для объяснения этого антагонизма автор следует довольно укрощенному приему — дает общую отрицательную характеристику русской культуры в сравнении с положительной культурой польской, исходя из кардинального факта — противопоставления православия католичеству.
*) М. Zdziechowsky. Wplywy rosyjskie na dusze polskaj. Krakow. 1920, p. VII + 155.
198
Есть политический антагонизм между обоими народами: борьба за «русские» (литовско-русские, скажем мы) земли (стр. 7—14); есть национальный антагонизм, обострившийся в XIX веке, благодаря «неравному браку», заключенному в 1815 г., — соединению Ц. Польского с Российской Империей и дальнейшим грустным судьбам этой унии (стр. 14—24).
Но даже если б этих причин не было, если б они были вполне устранены, все же остался бы глубокий, коренной антагонизм, «взаимное отталкивание польской и русской культуры» (стр. 21).
Наиболее резкую противоположность Кутшеба видит в четырех культурных областях: в религии, в праве, в характере и обычаях обоих народов. И основным фактором являются различия в религии, все остальные — лишь производные из этого кардинального фактора.
«На культуру народа религия, исповедуемая им, производит безгранично сильное влияние не только тем, что она разрешает величайшую загадку человеческого духа, вопрос о загробной жизни, и примиряет жизнь со смертью, не только тем, что она (религия) правит обществом через посредство создаваемых ею учреждений, — но прежде всего тем, что она касается глубин человеческих понятий и чувств, определяет их ценность, утверждает их бытие своими заповедями, из коих зачастую одни, воспринятые правом, становятся правовыми нормами, а другие, существуя рядом с правом, создают некий естественный порядок, обязательный для всех, становящийся мерилом в нравственном отношении для людей, для их добродетелей и пороков. Церковь создает понятия совести и вечности, предписывает основы любви и прощения, чистоты мысли и дел, смирения и покаяния и т. п.» (стр. 26). И даже личности, безразличные к церкви или бунтующие против церкви, целиком, «всем своим существом пребывают в понятиях той церкви, которая была церковью всего народа» (стр. 26)..
Этот длинноватый, но прекрасный период отлично определяет все значение, которое польский ученый придает церкви в создании национального типа народной души.
И дальнейшее изложение Кутшебы все направлено к одной цели — подчеркнут различие православия и католичества, как «глубочайшего элемента антагонизма» обоих народов.
В этом противопоставлении Кутипеба мало самостоятелен. Он следует почти целиком за докладом проф. Гарнака о ду-
199
хе восточной церкви, прочтенном в 1913 г. но поводу Балканской войны. *)
Различие восточной и западной церкви заключается не столько в догматических отличиях, не во внешнем факте папской власти даже, а в самом духе обеих церквей, в антитезе понятий, восходящих еще к антитезе римского и эллинского (неоплатонического) миросозерцания. Догматически обе религии — религии искупления. Но в понятии сущности искупления, его цели и путей к нему, различен дух обеих церквей. Восточная церковь занята главным образом вопросом об искуплении от смерти, вопросом о самой смерти и о будущей жизни во Христе. Блаженство возможно лишь в будущей жизни. Отсюда преобладание литургии, ибо она уносит в небо, дает верным предвкушение вечного блаженства. Потому восточная литургия отличается экстатически-мистическим характером, как прообраз царства Божия во всей его ослепительности. В связи с этим стоит и культ образов, как видимых ликов нездешнего мира».
«Результаты этого духа восточной церкви особенно проявляются во взгляде на жизнь, в ее оценке. Блаженство — лишь за гробом, там искупление, там добродетель. Мир, в коем мы живем, лежит во зле: он — создание дияволов, в нем нет добра, не найти его и незачем стараться его исправит. В нем царствует тьма и безнадежность. Неправедны и внешние формы политической и юридической жизни, связывающие людей. Главные добродетели людей — пассивные: незачем противится злу, и не к чему, — ведь весь смысл лишь в будущей жизни! Посему надо бежать от этого мира, от его занятий, егорадостей и забот, и от людей. Главное воплощение этого отвращения от жизни — монашество. Тип восточного монаха — аскет, пустынник. Он покинул мир, не хочет знать его, чтобы не сталкиваться со злом; он отрекается от всего, он бьет поклоны, умерщвляет плоть, живет лишь в поклонении Божеству, в мыслях о блаженстве — после смерти. В этом, такой огромный, безграничный пессимизм!» (стр. 31—32). И цитируя уже не Гарнака, а своего соотечественника, Влад. Яблоновского, автор заключает: «на Востоке христианская культура вырастила самый черный цветок пессимизма». Этотпессимизм
*) Adolf Harnack. Der Geist der morgenländischen Kirche im Unterschied von der abendländischen. Sitzungsbericht der Königl. preuss. Akademie der Wissenschaft. Berlin 1913.
200
в отношении к жизни и миру, к его учреждениям и творчеству, к красоте его и утехам, Кутшеба находит у самых выдающихся из русских мыслителей.
Из этой предпосылки старается он объяснить и отношение церкви к государству. «Занятая лишь мыслью о будущем блаженстве верующих, восточная церковь не требует себе государственной власти.
Для нее важно лишь поддержание традиции, у нее нет никакой потребности в эволюции, эволюция для нее недопустима. Церковь не ставит себе земных задач и потому охотно подчиняется государю, лишь бы государь был православным. И восточная церковь срастается с отдельными государствами, народами, благодаря чему создаются отдельные национальные церкви .»
Есть, по мнению Кутшебы, известное расхождение между духом восточной церкви, «не желающей знать о мирской жизни», и задачами государства, занятого устроением именно мирской жизни (стр. 35). Поэтому для автора наиболее последовательным православным является Л. Толстой — этот «православный монах, хоть и не в рясе», зашедший в отрицании государства и мира до последнего предела. «Хоть и отлученный от православия, он мог явиться только из православия».
Такова яркая картина духа православия в изображении польского историка.
А католичество? «И католичество видит сущность религии в искуплении от греха и смерти. Но смерть не простирает в нем своих черных крыльев, чтобы заслонить мир от глаз людей» (стр. 36). Для католичества кардинальный догмат— искупление от греха. Кто избавился от греха на земле путем добрых дел, для того уже перестает существовать смерть. Поэтому важнее всего нравственная жизнь и добрые дела на земле.
Поэтому таинства преобладают над литургией в католичестве, ибо они очищают душу, особенно важнейшее из них — покаяние. Покаяние — сильнейшее лекарство католичества в терапии души.
И задача ксендза — не литургисать только, а быть учителем, пастырем душ.
Отсюда и совершенно иное отношение этой церкви к государству и миру. На земле можно достичь искупления, на земле можно строить царство Божие. Надо и можно бороться со злом в мире, можно воспитать людей для царства Божия на земле, можно свести его с неба на землю (стр. 37). Оптимистичен взгляд
201
католичества на мир, на его красоты. Аскетизм не характерен для католичества. Деятельные и хозяйственные бенедиктинцы и кармелиты — вот образцы западных монахов. И чистейшая фигура католичества — Франциск Ассизский благословляет красочность мира. Наконец, Лойола провозглашает принцип, что иезуит должен знать мир во всех его проявлениях, во всем его знании.
Раз западная церковь строит царство Божие на земле, то ей нужна светская власть. Во власти папы осуществляет она свой идеал и стремится подчинить себе государства ради единства Божия стада. Она должна быть свободной от государственного принуждения, она борется за свою свободу от государства и теперь. Поэтому католическая церковь — защитник прав свободы человеческого духа, потому она проникнута духом веротерпимости, потому она проникнута духом эволюции. (Sic р. 39 — 40).
Исходя из этого, яркого и не требующего комментариев, противопоставления черного православия и розового католичества, Кутшеба строит и остальные свои антитезы. Всюду те же крайности. В области правовой культуры — весь Запад воспитался на конституционализме, на системе субъективных публичных прав, выросшей из иммунитетов церкви и сословных привилегий (в Польше уже с 14 века). А Восток тонет в бесправии. Церковь принесла на Русь Византийское начало: Princeps legibus solutus est (p. 52). И Москва не признает ни субъективных ни сословных прав. Беспощадной рукой уничтожает она княжеские вольности и Новгородскую «старину». Деспотизм создал неуважение к праву в русском характере и переоценку творческой силы и мощи государства.
В народном характере опять те же кардинальные расхождения. Характер народа создается под влиянием государства и церкви, обуздывающих похоти и своеволие понятиями вины, греха и наказания. Западные народы прошли эту школу, к их числу относятся и поляки.
Но русская душа не знает этих сдержек: в ней преобладают чувства и чувственность. Иван Грозный, Петр Великий. Екатерина II — образцы русской необузданной «широкой натуры». Русская душа не знает равновесия, ее характеризуют отвращение к умеренности, вечные крайности и пессимизм, выросший из религиозных взглядов русского православия. (р. 68).
И русское общество тоже проходило школу у государства и церкви. Но они не сумели его воспитать.
202
Русская церковь обращала больше внимания на внешность, на формы культа, чем на духовное воспитание верующих. А государство действовало лишь угрозами...
Наконец, и в обычаях, в культуре общежития те же различия. Запад, под влиянием того же католицизма, создал понятие рыцарства. Христианский рыцарь — защитник вдов и сирот, ревнивый хранитель своей чести и слова, поклонник Прекрасной Дамы, вырос целиком на почве католицизма. С исчезновением рыцарства как сословия, выработанный им высокий идеал житейского поведения продолжает оставаться и влиять на культуру остальных слоев общества. Для Польши характерно распространение шляхетского гонора и обхождения среди широкого мещанства и крестьянства даже (стр. 77).
Опять таки, Россия не знала рыцарства. Ее воспитатели — Византия и Татары не знали идеала чести, а лишь идеал послушания, челобития, смирения и придворной лести. Достаточно сравнить два житейских идеала — «Домострой» и современного ему «Дворянина» Луки Горницкого (приспособление к польским условиям известного Кастильона).
И если сейчас тонкий слой русского дворянства, офицерства приблизился к западным рыцарским понятиям, то огромное большинство народа чуждо западной психике. «И поляк не поймет типов Достоевского, не поймет босяков Горького, не знающих, что такое честь.» (стр. 78).
Таковы главные положения любопытной книги проф. Кутшебы, положения весьма печального характера. Кардинальные различия восточного и западного христианства обусловили собою глубокое расхождение во всех областях культуры между двумя братскими народами. Но неужели это расхождение неизменно, нежели постоянное общение между Россией и Польшей не может создать взаимных влияний, перекинут мостик через глубокую, черную пропасть?
Как историк, проф. Кутшеба остановился и на этом вопросе в заключение своей книги.
Но, рассматривая историю взаимных влияний России и Польши, он приходит к неутешительным выводам. Еще в начале нашей истории различия были меньше. Но с XV века антагонизм церквей усилился. В ΧV и ΧVΙ окончательно разошлись дороги, по которым пошли русское и польское право, нравы и обычаи (стр. 81).
203
И даже XIX век не дал почти ничего в области взаимных влияний. Трудно усмотреть какое-либо значительное влияние Польши на русскую культуру XIX в. (в сравнении с громадной ролью всей западной культуры вообще). А обратные влияния России на Польшу или равны нулю (в области религии), или незначительны и обычно вредны (в области права, обычаев и литературы).
Итак, пропасть между русской и польской культурой существует и будет существовать долгие годы — вот общий вывод книги.
Подробное изложение этой книги избавляет нас от обязанности разбирать ее и опровергать те ошибочные выводы, которые делает проф. Кутшеба, исходя нередко их правильных посылок. Нам кажется, что каждому беспристрастному читателю ясна основная ошибка его книги — преувеличенное заострение противоположностей польской и русской культуры, получаемое довольно простым методом: отнесения всех положительных черт христианского миропонимания в кредит католичеству, всех отрицательных (по отношению к земному миру) — в дебет православию. Этот прием привел и ко всей дальнейшей окраске книги: накоплению светлых красок на одной стороне и сгущению теней на другой. От этого книга выигрывает в яркости, но много теряет в убедительности.
II.
В яркой книге проф. Кутшебы русская и польская культура стоят как Ариман и Ормузд, как Чернобог и Белобог, друг против друга; они так резко очерчены и противоположны, что взаимные влияния между ними едва ли возможны. Интересного вопроса о взаимодействии культур проф. Кутшеба, едва коснулся в заключении своей книги.
Но вопрос о взаимных влияниях — главное содержание сборника статей проф. Здеховского. Основная посылка его приблизительно та же. Восточная темная русская душа — антитеза западной, светлой польской душе. Но к ужасу своему он замечает, что между ними нет непроходимой пропасти, что русская душа все сильнее и пагубнее влияет на польскую душу; по поводу этого «растлевающего влияния Востока» автор и счел нужным бить в набат.
204
Самое страшное в русской душе для Здеховского ее максимализм, очаровавший Польшу.
Стремление к абсолютному совершенству во что бы то ни стало — вот, сущность русского максимализма. Проявление его автор видит в трех областях: в области морали (в этом очарование русской литературы), в области общественной (стремление к осуществлению рая земного, питающее русскую революцию) и в области политической (где догмат всемирной самодержавной империи руководил русской политикой). «С этих трех сторон максимализм произвел натиск на польскую душу, стремясь ее обольстить и растлит»... (р. VI).
Эту страшную опасность Здеховский, по собственным словам, почувствовал еще в 1911 — 12 году. И самая ранняя из статей его сборника: «Несколько мыслей над гробом Столыпина» посвящена политическому максимализму России — ее национализму, для характеристики которого Здеховский не находит достаточно резких слов. Полное нравственное одичание — вот, по его мнению, сущность русского политического максимализма, воплотившегося в двух крайностях: в реакционном национализме и во все уничтожающем духе бунта и революции. И цитируя слова О. Шарапова о том, что «Россия—прогрессивный паралитик, лишенный надежды на выздоровление», Здеховский предрекает, что Россия сыграла уже свою политическую роль: она создала государство, которое разлагается на наших глазах и превратится в хаос (это писано в 1911 г.). Если есть что ценное в русской культуре, то это не ее государственность, а искания русской религиозной души, в своем максимализме взыскующей царства Божия.
Задаче определить основные черты русской религиозности посвящена вторая статья сборника: «Антиномии русской души» (1916 г.). Она почти целиком состоит в изложении известной стати Η. А. Бердяева: «Душа России». В резких утверждениях и антитезах Бердяева Здеховский с удовольствием видит полное подтверждение своей любимой мысли о максимализме русской души. В известной, жуткой противоречивости своей Россия — «самая государственная ... и самая без государственная страна в мире», самая националистическая и наиболее стыдящаяся своей национальности. Россия — страна безграничной свободы духа, странничества и искания Божьей правды — и страна неслыханного сервилизма и покорности, консерватизма.
205
В своих гигантских размахах русский дух устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем, к абсолютной свободе и абсолютной любви.
Отсюда бездарность его в создании средней культуры. «Так как царство Божие есть царство абсолютного и конечного, то русские легко отдают все относительное и среднее во власть царства Диавола. Русский дух хочет священного государства в абсолютном и готов мириться со звериным государством в относительном. Он хочет святости в жизни абсолютной, и только святость его пленяет, и он же готов мириться с грязью, с низостью в жизни относительной.» *)
Исходя из этих предпосылок Бердяева, Здеховский дает интересные сопоставления русского и польского мессианизма. Для обоих народов религиозный мессианизм является одним из значительнейших духовных течений. «Но менее апокалиптический, польский мессианизм не порывал с действительностью, хотел держатся земли, был в сущности перестановкой наших надежд из ближайшего будущего в неопределенную даль. В наших мечтах и надеждах мы старались или стоять на твердой почве (Товянский, Мицкевич, Цешковский), или переносили их в горний мир, чтобы, светя нам отсюда, эти мечты были стимулом для усилий в достижении общей цели (Красинский, Словацкий).
В сравнении с нашим мессианизмом, русские мессианисты менее реальны и более логичны. Они ждут космического преображения земли и человека. С этой точки зрения наш мессианизм скучен для русских — когда он ступает по земле, бессодержателен — когда он взлетает над землею; он не нашел у них ни симпатий, ни отголосков; они хотят оставаться на земле, но до глубины преобразить эту землю.» **)
Но этот подвиг, это чудо неосуществимо на земле. Потому русская душа, в своем стремлении к святости, к чуду становится пассивною, созерцательною, так легко опускает крылья в борьбе со злом внешнего мира. «Принцип: все или ничего, обычно в России оставляет победу за ничем». «Всякий человеческий идеал совершенства, благородства, чести, чистоты, света представляется русскому человеку малоценным, слишком мирским, средне-культурным. И колеблется русский человек
*) Цитирую по мало известной заграницей книге Η. А. Бердяева. Судьба России. Москва 1918, стр. 3—26.
**) Zdziechowski. Wplywy rosyjskie... р. 17—18.
206
между началом звериным и ангельским, мимо начала человеческого. Для русского человека характерно это качание между святостью и свинством. Если нельзя быть святым, то не так уже важно, быть ли мошенником или честным.» *)
Этот внутренний разлад в русской душе ведет к фатализму, к примирению с самой худшей действительностью, по словам Здеховского. Бездейственность, пассивность после краткого порыва — вот основы русской души, тесно связанные с ее религиозным максимализмом. **)
Жуткому очарованию того же максимализма в иной области — в литературе и влиянию его на польскую душу посвящена следующая статья Здеховского: «Русификация в литературе». На примере Ал. Закржевского ***) видит профессор это страшное увлечение. Закржевский презирает польскую литературу, застывшую в национализме, презирает во имя русской литературы, «родившейся из культа страдания, ставшей истинной теургией, якорем спасения мира, провозвестником его религиозного возрождения.» Эта добровольная русификация поляков страшит краковского профессора, и он живописует ее в форме разговора со спутником по вагону, тоже поляком, влюбленным в русскую литературу: — «Всечеловечность, всеобъемлемость русской души — вот то, что привлекает польскую молодежь. Ни одна западная литература не достигает таких метафизических и этических глубин, такого мученичества, такой страстной тоски по царству Божию». «Россия — единственный народ, мыслящий не о данном моменте, а о вечности, не о земномблагополучии, а о граде небесном, — и потому верю я, что в ней победят не лозунги разрушения и хаоса, а Христос.» В возражениях своему фанатическому собеседнику проф. Здеховский старается подчеркнуть уже знакомые нам отрицательные черты русского максимализма. Слишком высокий идеал приводит к житейской фальши, к разладу с жизнью, к отрицанию мира и отрицанию
*) Н. Бердяев. О святости и честности (1016) в том же сборнике «Судьба России», стр. 74—80.
**) По мнению Здеховского, проповедь творчества, творческого дерзания Η. А. Бердяева одинока среди русского общества, идет в разрез с его настроениями. Бердяевскую философию творчества и действенности Здеховский считает проявлением польской крови, текущей в жилах Бердяева — до того эта философия не свойственна русской душе. Zdziechowski, ор. cit, р. 44.
***) Поляка по рождению, но страстного поклонника русской литературы, автора книг: «Сверхчеловек над бездной. К. 1911», «Карамазовщина. К. 1912», «Подполье. К. 1912», «Религия. К. 1913».
207
христианства даже. И потому Здеховский с особенным вниманием останавливается на Розанове, на его зловещем душевном раздвоении и иногда кощунственной борьбе с Христом. Аморализм (как следствие слишком высокого морального вдеала) — вот, по мнению Здеховского, главная черта современной русской литературы.
Наконец, последнее и самое страшное искушение в духе русской революции, в ее максимализме, еще с 60-х годов привлекавшей многие польские души. Но обольстительные обетования коммунизма несут за собой отрицание демократизма, отрицание религии и нравственности. Против большевистского варварства (психологически глубоко заложенного в русской душе) Польша должна встать, как «antemurale christianitatis». Во имя истинного христианства она должна стряхнуть с себя всякую заразу русского максимализма. *)
Итак, несмотря на несколько другой подход к теме, общий смысл книги Здеховского близок к книге Кутшебы. Русская душа враждебна польской душе. Между ними пропасть. Если она заполнялась в последние десятилетия, то в этом страшная опасность. Необходимо вновь углубить эту пропасть, чтобы отгородиться от русского пессимизма и максимализма, тлетворных явлений, выросших на почве русского православия.
III.
Так понимают Россию поляки, в лице двух крупнейших своих ученых. Вместо того, чтобы возражать им, перейдем к разбору третьей книги по данному вопросу, написанной другим славянином — чехом П. Копалем. **) Его характеристика православия и русской культуры дает часто исчерпывающий ответ на утверждения обоих польских профессоров.
Написанная еще до войны, напечатанная в 1914 г., но появившаяся в свет только после окончания войны, эта книга старается наиболее глубоко обдумать проблему славянства в его религиозной сущности и вотношении к германскому духу.
По любопытному совпадению, и эта книга имела толчком к своему появлению цитированную уже статью А. Гарнака о «духе
*) Таков общий смысл двух последних статей: «Революция и русификация», «Страх как фактор русификации», центр тяжести которых в изложении политических событий последних лет.
**) Pawel Kopal. Das Slawentum und der deutsche Geist. Problem einer Wieltkultur auf Grundlage des religiösen Idealismus. Jena 1914, p. 192.
208
восточной церкви». Но в отличие от Кутшебы, Копаль не соглашается с Гарнаком, с его антитезой восточного и западного христианства.
Нет непроходимой пропасти, нет противоположности между восточным и западным христианством. Если есть известное своеобразие у славянско-православного Востока, то оно не страшно Западу, а только полезно ему, может омолодит его (стр. 16).
У обеих церквей общие корни, общие нравственные идеи и исходящие из них устремления. Главное для обеих церквей — то, что для них общее и основное, единое на потребу. А это есть Евангелие, нравственный и религиозный идеализм которого был одинаково горячо пережит и на Востоке и на Западе. На Евангелии основана вся нравственно-религиозная культура христианства.
Из глубокой сокровищницы Евангелия протестантская религия почерпнула два главных мотива: прощения грехов (per gratiam gratis datam) и вечной жизни, связанной с идеей царства Божия.
Но есть еще одна черта в глубинах Евангелия. Его надо рассматривать не только как учение о спасении отдельной души, о ее отношении к Богу (как это делает протестантство), но как благую весть о спасении всего человечества, как единого целого. Эта мысль о спасении всего мира—важнейшая в Евангелии. Личность не может спастись раньше мира, без связи с миром. Об этом благовествует ап. Павел: «якоже единого прегрешением во вся человеки вниде осуждение, такоже и единого оправданием во вся человеки вниде оправдание жизни». *) Только в единении с миром, во вселенской любви, оправдание ветхого Адама, и о Христе все оживут. **) Этот то мотив вселенского спасения и любви, создающий всеобщую идеалистическую этику, звучащий в проповеди ап. Павла, особенно сильно воспринят именно православным Востоком. Но вместе с тем нельзя утверждать (как Гарнак), что мотив преодоления греха отдельною личностью звучит на Востоке слабее, чем на Западе. Нет, русская душа, русская литература пережили его не менее сильно, чем Запад.
Заметим, что говоря о Востоке, Копаль считает за quantités négligeables греков и румын, а из славян для него без-
*) Римл. V—18.
**) I Кор. XV—22.
209
условно важнее всех «гигантски выросший русский дух»; предпосылка Копаля — «что Россия одна стала всемирно-историческим представителем восточного христианства, и потому противопоставление между Западом и Востоком есть противопоставление между руководящими культурами Запада и Россией.»
И в русской литературе (которая для Копаля является истинным выражением русского религиозного духа), мотив греховности особенно глубок у Достоевского и у Толстого. Эта мысль о греховности для них не продукт искусства, далекого от жизни, а плод совместного переживания писателей с душой народа.
На этом пункте Копаль особенно настаивает, ибо если Гарнак обосновывает непреодолимую противоположность Востока и Запада на предполагаемом ослаблении мотива греховности на Востоке, то, установив полное наличие этого мотива в сознании Востока, мы придем к принципиальной идейной общности обеих половин христианского мира.
А эта общность делает Русскую веру способной ко всем задачам, выросшим на почве христианского идеализма, и можно ожидать, что Россия переработает и продолжит все постулаты Запада. «Участие России во вселенской культуре не есть паразитарная рецепция, а конгениальная концепция на почве христианского идеализма» (стр. 22). И русская культурная работа есть продолжение и итог всей европейской культуры.
Россия, говорит в следующей главе Копаль, *) собственно говоря,—единственная страна, где восточно-христианская культура нашла свое полное выражение. В своей исторической жизни русский (главным образом великорусский) народ глубоко уверовал в христианство и пережил его во всей полноте. Россия дает миру не только образы аскетизма (как следовало бы по Гарнаку), но и евангельское понимание человека, как создания Божия, предназначенного еще на этой земле ко спасению, человека, как сына Божия, возрождаемого по милости Божией. Под догматической историей церкви течет глубокий поток — своя эзотерическая история русской церкви, живое сказание о кротких, иже наследят землю. И в русской церкви, и в русской жизни, и в русской литературе (старец Зосима, Митя, Раскольников) находим мы радостное преодоление греха.
В особенности же мотив любви (и вселенскости — Allheit) становится отличительным признаком русского духа. Впоис-
*) Сар. V. Die Entwicklung der russischen Frömmigkeit als Sündenvergebung und Liebe.
210
ках этой любви мучаются и Алеша, и Иван, и длинный ряд героев Достоевского. Этот мотив, побледневший на Западе, перечувствован Россией, и в этом ее преимущество и сила.
Если Гарнак говорит, что «славянский дух ничего не изменил в византийской церкви», то это глубоко неверно. Конечно, он не изменил догмы. Но русское благочестие — крупная прибавка к этой догме. Глубокое понимание Евангелия в русском народе (благодаря тому, что церковь дала его ему в руки) дало ему нравственную силу в его страданиях и лишениях и создало идеал народа — богоносца, народа, объединенного в действенном христианстве. Русское благочестие не есть пережиток средневековья, «окаменевшее третье столетие», как показалось Массарику *). Позитивист и скептик Массарик ошибался. Он просмотрел действенную жизненность православия, создающего творческую силу русского народа. Благодаря серьезным историческим судьбам, русское (и сербское, по словам Копаля,) христианство получило особую жизненность, которая создает из него новый тип христианства, но на тех же общих всему европейскому миру основах.
И Копаль бросает интересную мысль о том, что русская литература 19 в. (с ее религиозными устремлениями) есть возрождение христианского Востока. Востоку не хватало Возрождения, той мощной струи, которая под влиянием античности дала Занаду новое понятие, — ценности жизни, ценности человека.
Сходную роль сыграла на Востоке только русская литература, внесшая в культуру глубокие начала гуманности и любви.
Но и для Запада русской литературе предстоит высокая, руководящая роль. В своей богатой истории и духовных исканиях Запад дал ответы на большинство запросов человечества. Запад формулировал идею нравственной свободы и автономии, установил методы, по которым личность может быть уверена в преодолении греха и в служении Богу и ближним, само организованное государство вовлечено в служение индивидууму; казалось бы больше нечего желать? (стр. 50).
Но есть слезы Сонечки Мармеладовой, есть плач невинного ребенка, — они мешают принять мир. И мир должен быть преображен всеобщим нравственным подвигом. А путь для него не во внешней регламентация правом, не в человеческой мудрости, а лишь в вечном источнике жизни, в Евангелии. «И
*) Th. G. Massaryk. Russland und Europa. II—501.
211
се множае Соломона зде» (Ев. Лук. XI — 31). Установить конкретные отношения человека к человеку и к миру во всей их полноте может только христианская вера. А на этом пути русское сознание и русская литература есть шаг вперед. Русская литература — «новое переживание Евангелия». (стр. 56).
Наш век (особенно на Западе) — век индивидуализма, век духовной разобщенности. Но русская душа все время ищет вселенского смысла жизни, любви, «соборного начала», в котором только личность и живет полною жизнью. Ярко выраженные в русской литературе и в русской жизни[1]) начала любви, сострадания, служения ближнему и человечеству — для Копаля проявления все одной и той же идеи der Allheit, универсализма, вернее вселенской любви, как руководящего начала русской души.
Наконец, горячая вера в загробный мир, мысль о потустороннем, das Oberweltlichkeitsmotiv, вовсе не приводит к пассивному аскетизму, к ослаблению нравственного интереса к этому миру, как это думает Гарнак. Она лишь освобождает русскую душу от мелочности, от будничного мещанства, создавая более глубокий взгляд на жизнь (стр. 84). По мнению Копаля, в связи с этой чертой находится и широта русской натуры, и некоторая величавость ее. И он рисует в восторженных чертах (в духе первых славянофилов) картину русской жизни, где все хорошо — и проникнутые духом этики хозяйственные кооперации (артели, задруги?), и русская община, и проникнутый любовью чин жизни, где больше сострадания и сорадования ближнему, чем в католических странах. Европа в технически-хозяйственном развитии XIX в. позабыла «человека в себе» (den Mensch an sich), этого не сделала Россия. «Если Запад просветил лицо земли искусствами и науками, воспитал человеческую индивидуальность, — то он в XIX в. потерял из виду потусторонний мир, и потому потерял то спокойствие и чинность духа, которые можно найти на Востоке. Звучание вечности в православии дает жизни нечто торжественное, твердое, спокойное, радостное и созерцательное» (стр. 91). Этому должен поучиться Запад у России.
Gesteht! Die Dichter des Orients
Sind grösser, als wir des Okzidents —
восторженно заканчивает Копаль одну из глав своей книги.
*) Ко.паль огтанавливается на русском сектантстве, на. хождении в парод, стр. 67—68.
212
Но если русская душа так полна нравственного богатства, если она дает ex oriente lux, το как объяснить ее страстную судьбу, ее боренья и страшные падения, переживаемые ею катастрофы?
В отличие от предыдущих июльских писателей, Копаль грешит тем, что не замечает почти отрицательных начал в русской душе. Плененный ее духовными красотами, он прошел мимо той глубокой антиномичности, которую усмотрел в ней Бердяев.
Правда, Копаль замечает некоторые недостатки русского мышления. Ему, например, не хватает достаточно глубокого философского и религиозного обоснования идеи государства. Нет выросшего в реформации (по мнению Копаля) понимания субъективных публичных прав. Недостаточное внимание к элементу права в общественной жизни—общая ошибка и славянофилов, и A. М. Добролюбова, и Л. Н. Толстого. России не хватает сознания права, и это задача будущего ее сотрудничества с европейской мыслью. Затем, русская философия, ярко окрашенная идеализмом, не выработала еще безукоризненной систематичности и методичности. «Она до сих пор не равноценна русской литературе» (с. 111). И здесь опять русская мысль нуждается в совместной работе с западно-европейской, особенно с немецкой мыслью.
Интересна общая тенденция книги Копаля, — в отличие от большинства славянских и германских писателей, указать на большое духовное сродство славянской и немецкой культуры, на полную возможность для них совместной работы. Поэтому, в соответствии со своей ориентировкой всей культуры на религиозном базисе, он старается подчеркнуть сродство славянского и германского религиозного духа.
Вследствие этого целая глава его книги посвящена вопросу о реформации в Чехии и Польше (где он, быть может, несколько преувеличивает роль протестантизма в чешской и польской культуре), другие две главы заняты вопросом о точках соприкосновения русского благочестия с духом реформации. Русское православие, обладающее уже указанными великими духовными сокровищами, нуждается в методах реформации и «способно к оплодотворению реформацией». России несколько недостает глубокого религиозного субъективизма, духа Мейстера Экхардта, Лютера, Беме. «И России следует совершить паломничество в Виттенберг, чтобы вдохновиться его духом» (стр. 81).
213
Мы не станем сейчас обсуждать этих любопытных, но весьма спорных пожеланий Копаля, ибо это выходит из пределов нашей задачи.
Вернемся к началу нашей статьи. Все разобранные нами книги одинаково сильно подчеркивают значение религиозного начала в создании русской «народной духа». Правда, они держатся зачастую противоположных точек зрения и грешат: одни — преувеличением темных, последняя — преувеличением светлых ее сторон. Но точка зрения Копаля, конечно, кажется нам ближе к истине. Если авторы — поляки заостряют глубокий разрыв между восточной и западной культурой (считая поляков истинными представителями Запада), то автор — чех старается найти общие признаки славянского духа и, отдавая должную дань его светлым сторонам, находит однако, что нет глубоких различий между восточной и западной культурой. Дети одного христианского миросозерцания, обе они могут благотворно влиять друг на друга, оплодотворят друг друга, сохраняя полное своеобразие свое. И религиозный идеализм славянства, обогащенный логикой германского философского идеализма, может явит миру богатые и творческие плоды своего духа. своего стремления быть на земле «истинными чадами Божиими».
Порукой этому, — как думает Копаль, — богатое раскрытие славянской души по преимуществу в русской церкви и русской литературе XIX века.
Ни одна из указанных книг не дала полного и ясного ответа на то, в чем основные признаки русской культуры. Но все они сходятся на том, что сущность ее в православии, так или иначе понятом. И в эти дни мы можем надеяться, что глубокие потрясения будут лишь очищающим катарзисом для русской души, выкуют в горниле страданий русское религиозное сознание и укрепят извечную связь православия с русской душой, связь, которую яе нарушат никакие мирские гонения.
А. Соловьев.
114
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
