13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Реми Браг
Реми Браг О христианском понимании смерти
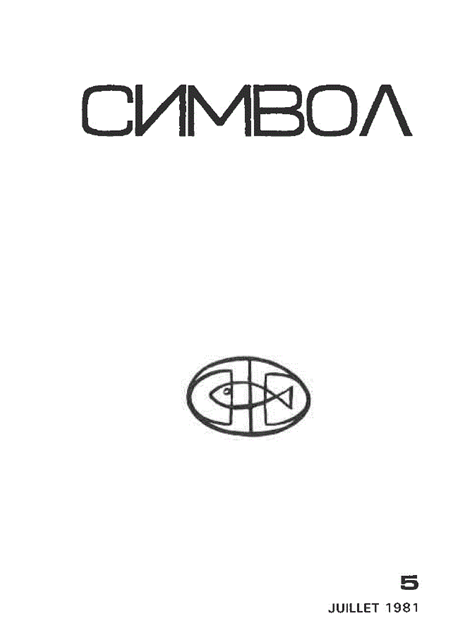
PARIS
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Реми Браг
О ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ СМЕРТИ
1. Смерть и общение
Каким бы ни было биологическое определение смерти, она остатки для нас моментом когда невозможность общения с ушедшим становиться окончательной. Мы больше не можем ни говорить с умершими, ни действовать с ними сообща, ни чувствовать себя с ними в согласии. Никто уже не можем встречаться с ними, осязать их. В лучшем случае мы воспринимаем их только как тени, с которыми мы вольны обращаться произвольно: мы их представляем себе, их образ остаётся в нашей памяти, но сколь он зыбок! Хуже всего то, что их существование как будто целиком зависит от нашей весьма ненадежной памяти. Сохраним ли мы об умершем самые лучшие воспоминания или его образ будет искажен нашей неблагодарностью — в любом случае он существует для нас лишь пассивно и никогда — активно. Покойный может, в лучшем случае, представляться нам очищенным от житейской суеты, от того, что умаляло его при жизни, но это уже не тот человек, которого мы знали, ибо он больше не обладает свободой. А ведь именно свобода делает нас личностью, свобода выбирать, хотя бы частично, характер отношений — любовных, враждебных, даже безразличных — с окружающими. У умершего остается только свобода, так сказать, негативного характера, ибо он больше не может вступать в какие бы то ни было отношения. Смерть, следовательно, это разрушение личных отношений.
Смерть не только ставит последнюю точку в отношениях между людьми. Она выявляет несовершенство этих отношений, хотя и не является причиной этого несовершенства. Именно тогда, когда уми-
4
рает тот, кого мы любили, мы начинаем понимать, что любили его недостаточно, что могли и должны были бы любить его сильнее. Смерть — разлука окончательная, потому что она абсолютна, — заключает в себе потребность абсолютного общения. Именно смерть обязывает нас воображать то, что могло бы быть совершенно удавшимися отношениями, и в то же время она лишает нас всякой возможности достичь этого. Смерть есть мнимый образ бесконечных отношений.
2. Природа и стиль
Наблюдая смерть, мы отнюдь не чувствуем, что умирающий остается личностью. Наоборот, он подвергается превращению — на первый взгляд, в вещь. Сначала в неподвижный труп, потом в неясный образ — в памяти тех, кто остался жить. В смерти оскорбляет именно это: человек становится не тем, чем он является по своей сути, он становится вещью, т.е. тем, чем никогда не был, кроме как во сне или в бессознательном состоянии, да и то отчасти. Смерть животного нас не слишком удивляет: она нам представляется совершенно естественным следствием его животной жизни. Ведь умирает и, так сказать, становится вещью его сознание, уже и так погруженное в вещи. В смерти животное только подчиняется закону своей природы, из которой его выделяет только кратковременная, случайно возникшая жизнь. У человека все это обстоит совершенно иначе. У животных смерть затрагивает отдельную особь лишь как мельчайшую и неотделимую частицу породы, в целом остающейся не затронутой смертью. В человеке она затрагивает индивидуума как такового. Биология знает это очень хорошо: способность умирать и степень индивидуализации возрастают одновременно. Философия может даже сказать, в положительном смысле, что способность умирать — это показатель высшей формы существования.
Чтобы ответить на вопрос о смысле смерти, нужно сначала найти ответ на другой вопрос: что такое индивидуализация. С точки зрения биологии и кибернетики ее можно в двух словах определить как способность воспринимать информацию (1). Вначале — пассивно, в виде генетического наследия, но также и активно, благодаря памяти. Человека от животного отличает то, что он может передавать информацию посредством языка и производить работу, которая придает материи форму. Информация, вначале получаемая и передаваемая чисто пассивно, становится как бы неким даром, которым человек распоряжается активно и свободно. Индивидуальностью меня делает именно мое отношение к общему смыслу, к информации. Мы будем называть такое отношение «логос» (греческое слово, которое можно перевести
5
как «язык», «разум», «смысл», «определение», «понятие» и т.д.). Вначале информация дается нам пассивно. Я получаю ее от моих предков, от родителей; весь первоначальный опыт, неизгладимо запечатленный в моей памяти, это опыт социальной жизни, сперва в семейной среде. Язык, которым я пользуюсь, это мой родной язык, который оставил во мне глубокий след с детства. Но я могу — и на этот раз уже активно — пользоваться и общим языком, чтобы составлять вопросы и ответы. Логос меня отличает от других, творя из меня индивидуума, но в то же время он меня связывает с моим родом, делая меня его членом. О логосе можно сказать, что он специфичен в двух отношениях: он — то, что есть во мне самого своеобразного, присущего лично мне. Но с другой стороны, он — также и то, что свойственно мне как члену рода.
Двойственность, которая проявляется здесь, может быть устранена разграничением, о котором много писал в своих трудах святой Максим Исповедник, — разграничением между «логосом» и «тропотом» (2) .Логос это прежде всего общее понятие, например, общее понятие человека, в отличие от той или иной конкретной личности. Логос — также то, посредством чего я вхожу в контакт с другим, то, что связывает «я» с «ты», т.с язык. Если люди могут общаться, то это вовсе не потому, что они являются частицами одного безличного логоса (материи, разума, способности к определению), но потому, что мы как личности можем иметь личные отношения с другими. Я говорю не с моим родом, а с личностью. В личном общении логос становится средством, с помощью которого выражается некое «я». Это «я» незаменимо, но вместе с тем оно не перестает быть общим. То, что в «я» есть истинно личного, это не крайняя некоммуникабельность — иначе как могли бы мы быть одной природы? — но неподражаемая манера выражать себя, стиль (3). Мы общаемся друг с другом не только с помощью языка вообще, но при помощи определенных фраз, которые составляем в соответствии с возможностями языка, при помощи определенных оборотов (тропос). Например, тот или другой писатель никогда не превышает возможностей языка, но разрабатывает стиль вглубь, всегда, впрочем, с определенных позиций. То же самое и для личности: я никогда не превышаю возможностей человеческой природы, как ее определяет логос, но я их выражаю под некоторым углом зрения — это и есть мой тропос.
Можно истолковать в этом смысле известное изречение «Стиль это человек». Оно указывает на то, что отличает человека от животного. Человеческий индивидуум — нечто большее, чем частный случай вида «человек». Человек есть также личность. Каждая личность может, но крайней мере теоретически, усвоить себе все свойственное
6
человеку (так же как, например, писатель может, по крайней мере теоретически, использовать все слова, все возможные обороты языка). Такое усвоение не означает, что данный индивидуум разделяет с другими то, что составляет логос рода человеческого. Такое усвоение состоит в том, чтобы воспринять и сделать своим весь человеческий опыт. Таким образом становится очевидным весь ужас человеческой смерти: животное живет и умирает как особь, вид же продолжает жить. А человек умирает как стиль, как тропос. В некотором смысле с ним умирает все человечество — такое, каким его выражал по-своему тропос определенной личности. Вот почему смерть исключает всякую возможность общения, ибо в смерти личность лишается не только своей человеческой природы, но и присущего ей способа выражать эту природу единственным и неповторимым образом.
Можно, таким образом, ощутить, насколько трудна и, на первый взгляд, произвольна всякая попытка осмыслить смерть. Может ли смерть иметь смысл, раз она поражает человека именно там, где он воспринимает и творит смысл? Как говорить о смысле смерти, если смерть — это смерть смысла?
3. Нынешний лик «последнего врага»
Если рассматривать смерть только с точки зрения природы и ее логоса, она предстает как уничтожение индивидуума на фоне рода, который продолжает жить. Умирает индивидуум. Человек же как вид не умирает. Можно дать этому факту идеалистическую интерпретацию. Мы хотели бы показать, что именно из этой интерпретации исходит весьма распространенная и характерная для современного мировоззрения и мироощущения концепция смерти. Именно перед лицом этой концепции христиане исповедуют свою веру в смысл смерти.
С точки зрения идеализма, смерть стирает различия, которые составляют индивидуальность. Смерть устраняет частности, которые колеблют чистоту общего понятия. Благодаря смерти логос освобождается от случайных качеств вещей в нем содержащихся. Смерть это абстракция, ставшая реальностью. Лишь посредством смерти вещи становятся элементами логоса. Они возвышаются до понятия именно потому, что умирают как нечто частное. Логос и смерть суть одно и то же. Это знал еще Гегель: «С языком в чувственный мир, взятый в его непосредственном существовании, входит смерть. И этим язык возвышает чувственный мир до некоего существования, которое есть призыв, эхом отдающийся во всех существах, наделенных даром воображения». Эта распространенная в современной литературе тема главенствует в размышлениях Малларме о поэтическом творчестве: «Смерть — это она торжествует в голосе поэта, странная, ибо
7
она делает вещи чуждыми им самим; роза, когда я ее называю, исчезает из всех букетов» (4). Смерть, таким образом, это и есть сам смысл. Единственное присутствие вещей это их чистое присутствие в понятии, которое освобождает их от индивидуальности. Перед лицом этой чистоты естественное присутствие вещей кажется нечистым, даже грязным: буйство природы — грязь, когда мы его сравниваем с прозрачной, как кристалл, чистотой технического мира разума. Если можно отождествлять смерть и логос, то именно на фоне предварительного и типичного для нового времени отождествления логоса и абстракции. Логос становится, таким образом, рационализированным языком логистики и планирования. Он совпадает с тем, что остается в результате исключения всех частных тропосов. Речь теперь идет не о том, чтобы рассматривать логос, отождествляя его с тропосом, но о том, чтобы отделить тропос, — отделить для того, чтобы логос был тем самым освобожден и воскрешен. Для Гегеля частное умирает и воскресает в понятии.
Идеалистическая концепция смерти это вовсе не пустое бравирование некоего поэтического мира, удаленного от реальной жизни. Наоборот, эта концепция — основная черта современной эпохи. С помощью этой концепции смерть в наши дни осуществляет свое господство над миром (см. Евр. 2.15) (5). Христианская концепция смерти это не некая философская концепция, но исповедание смысла, полученного от Бога. Однако сегодня этот смысл приходится исповедовать не перед лицом ветхого язычества, но перед лицом концепции, согласно которой смерть представляет собой власть абстракции и нивелирования, власть, которая стремится сделать невозможной исповедание веры в Бога.
Действительно, если мы отождествляем смерть и понятие, триумф смерти есть также и триумф понятия. Именно этим вызван расцвет новейшей философии и атеизма. Атеизм есть, прежде всего, сведение сущего к высшему понятию. Понятие должно, следовательно, охватывать Бога. Бог, ставший понятием, неминуемо отождествляется с ним. Таким образом, ничто не отличает Бога от идеи Бога. Если воспользоваться знаменитой гегелевской игрой слов, религия провозглашенного (данная по Откровению) становится религией открытого (очевидного). В таком случае все апофатическое богословие неминуемо отбрасывается как проявление полного неведения (6). Мы не можем здесь подробно рассматривать процесс исчезновения апофатизма в богословской мысли позднего средневековья. Мы коснемся только тех сторон этого процесса, которые подготовили новое время, и поэтому ограничимся отдельными моментами (7).
Согласно метафизическим представлениям начала современной эпохи, Бог есть лишь непознаваемая основа мира. В конечном счете, Он
8
существует только затем, чтобы человек мог получить мир, утвержденный в бытии. Образ Отца исчезает за принципом бытия, понятого как Абсолют. Но Абсолют постигается только посредством абстрагирования, вследствие чего сущее не может более озарять некий упорядоченный и прекрасный мир, в котором мог бы проявляться Бог. Когда Бог определяется как Абсолют, отказ от апофатического богословия оборачивается парадоксом: об Абсолюте мы можем сказать только, что он есть Другой, которого мы не можем познать как такового. Слово «Отец» не выражает больше сущности Бога. Стирание отеческого лика открывает дорогу бесконечности желания, отныне неопределенного. Чем менее известен высший принцип, тем большим становится стремление постичь его. Бесконечное стремление вынуждено тогда противопоставить себя реальностям мира, которые кажутся ему недостаточными. Красота не есть уже символ божественного бытия; как объект желания она отождествляется теперь с Небытием (8). Логос не есть больше хвала, он становится (прежде всего в самом благородном из своих применений, в поэзии) поисками Непознаваемого как такового и разрушением мира познаваемого (9). Апофатическое богословие больше не уступает места восхваляющей молитве, но уничтожает ее объект. Оно не есть уже смерть и воскресение мысли, но смерть Бога.
Таким образом выявляются главные черты концепции смерти и логоса — концепции, которая доминирует в современном мире. Смерть есть непознанный объект желания, и потому, отрицая ее, к ней одновременно испытывают смутное влечение (10). Функция логоса как планирования и организации также носит двойственный характер: логос исключает возможность смерти, но провозглашает ее всемогущество. В системе, способной постичь саму себя, смерть устраняется только ценой устранения каждого неповторимого живого существа. Смерть, как мы видели, — это сам логос. Ей даже усваивают божественные атрибуты. «В облике смерти присутствует Бог» (И. Гельдерлин).
4. Двойственность концепции смерти исходя из личности
Поистине бездна разделяет христианское понимание смерти и ее современную идеалистическую интерпретацию. Согласно идеалистической концепции, это освобождение логоса, который будто бы представляет собой предмет в подлинном, очищенном виде. Умирает якобы только несущественное. Но тогда в логосе пропадает то, что является существенным, может быть даже самым существенным, элементом смерти человека, — свобода. За освобождение логоса личность
9
платит своей свободой. Логосом не исчерпывается то, что личность имеет личного. Смерть предстает скорее как нечто сковывающее личность. Пользуясь библейским языком, можно сказать, что смерть это триумф тех элементов мира, которые посредством греха подчинили себе человеческую природу (11). Как эта концепция может быть преодолена?
Христиане слишком часто считают, что для этого достаточно вновь утвердить в умах идею личного характера смерти. Снова появляется хорошо известная тема «умереть своей собственной смертью» (Рильке и др.), ее пытаются обосновать философски. Такие попытки могут привести к достижению философских и богословских глубин (как, например, в произведениях Ладисласа Бороса). (12). Мы уже говорили, что смерть требует общения и одновременно исключает его, но равным же образом смерть настигает личность именно тогда, когда личность обретает полное единство. Только в момент смерти я как бы закончен, завершен. Тогда я, по Боросу, становлюсь способным к последнему выбору — «за» или «против» Бога. Именно это имеется в виду, когда целокупное единство человеческой жизни рассматривается как воля (Блондель), как знание (Марешаль), как память (Бергсон), как любовь (Габриэль Марсель) Смерть, таким образом, предстает как деяние личности, отныне завершенной. Материя ограничивает свободу. Смерть же, освобождая от материи, оставляет только свободу в чистом виде. Такое раскрытие тайны смерти имеет свои преимущества, ибо помогает пролить свет на некоторые неясные проблемы (Чистилище, первородный грех, преддверие рая и т.д.). Но оно, как нам кажется, требует дополнения.
Действительно, можно задаться вопросом, не является ли представление о смерти как о наиболее «самостном» акте личности таким же односторонним, как «перевернутое отражение» этого представления — концепция смерти, исходящая из природы, концепция, согласно которой смерть есть триумф понятия. Когда говорят, что смерть — это наиболее «самостное» из того, чем мы обладаем, что означает слово «самостное»? «Самостный» характер смерти легко может быть понят как желание индивидуума отделить себя от других, отказавшись от всякого общения и желая иметь дело только с самим собой. Каждый из нас единственен (ultima solitudo Дунса Скотта). Означает ли это, что каждый одинок? Как отличить тогда смерть от ада, который есть абсолютное одиночество? Для Бороса свобода это утверждение через саму себя личности, которая, будучи абсолютной, встречается с Абсолютом. Смерть — это встреча с Богом, воспринятым как Абсолют. Две эти концепции — Бога как Абсолюта и свободы как самоутверждения — соответствуют друг другу. Но встреча с Абсолютом и переход к Отцу — вещи разные. Утверждение себя через себя
10
(authypostaton Прокла) и троичная жизнь Божественных ипостасей друг с другом не соотносятся — и настолько, что в такой перспективе христианскую смерть невозможно понять как уподобление Христу, как факт смерти с Ним и, следовательно, как акт любви. Этому не нужно удивляться: ведь само исходное понятие «самостного», личного не является полностью христианским. Если, напротив, смерть оценивается как возможность достижения Бога Отца нашего, факт смерти должен быть осмыслен в сопоставлении с троичной жизнью. Нужно, следовательно, брать как отправную точку не смерть вообще, а смерть Христа.
5. Смерть через любовь к Глаголу,
рассматриваемая как переход к Отцу
«Христианское в христианах» — это Христос (св. Августин). Смерть Христа - единственно христианская смерть. Задумываться о смысле христианской смерти — что созерцать смерть Христову. Вначале смерть явилась нам в идеалистическом плане, как освобождение логиса на фоне полною стирания всего частного (тропоса), Христиане же исповедуют, что Христос есть Логос, Глагол, Слово Господне. Это больше, чем игра слов. Ибо для христиан Христос — поистине смысл творения, которое во Христе было призвано к существованию. Именно в Глаголе — средоточие всего мира. И поэтому Он истина всего, что есть в мире, и в частности моя истина. Он больше мое «я», чем я сам. Следовательно, если мы исповедуем, что Слово стало плотью, мы должны задаться вопросом о смерти Логоса (13). Только сейчас мы можем со всей точностью говорить о смерти смысла (см. гл. 2) .
Первая отличительная и даже уникальная черта этой смерти — то, что она свободна. «...Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее; никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее...» (Ин 10.17-18). Невозможно говорить о более или менее сознательном самоубийстве Христа (Ницше), так как Христос действует, повинуясь Духу повелевающему. Нельзя представлять смерть Христа как самоубийство и потому, что самоубийство ведь состоит в убиении себя самим собой. Христос же является Самим Собой не в нашем, мирском, смысле, согласно которому быть самим собой означает самому распоряжаться собой, а в смысле троичном, ибо Христос есть Логос, Глагол, Слово как Слово Отца. Никакое слово не исходит от себя самого, но от того, кто говорит (см. Ин 6.38; 7.17 и др.). Слово повинуется говорящему, оно соответствует тому, что хочет сказать посылающий его. Это послушание — ни в коем случае не вынужденное подчинение, но исполнение того, что и есть слово.
11
То, что делает Самого Христа как Слово Божье свободным — это исполнение Им в послушании Своей сущности Глагола. Чем более послушен Он Отцу, Его пославшему, тем более Он остается Самим Собой и тем более возрастает Его свобода. Через послушание Его свобода быть Самим Собой становится совершенной. Христос, как Глагол, не нуждается, следовательно, в освобождении. Чтобы быть свободным, Ему не надо преодолевать никаких преград. Его свобода не отрицательна (освобождение от принуждения), но Он обладает ею изначально, Она соответствует свободе Отца, Который Его посылает. Теперь следует уточнить аналогию Божественного Логоса с человеческим языком: действительно, в человеческом языке свобода не касается логоса, ограничиваясь областью тропоса. Например, я не свободен изменять законы грамматики, но я могу выбирать те или другие слова и составлять из них самобытные обороты (см. гл. 2) . Напротив, в Троице свобода начинается сразу: мы увидим далее, что это потому, что логос Троицы, Ее сущность, Божественная природа есть отношения между тропосами ипостасей (см. гл. 6). Свобода Глагола начинается с Его рождением от Отца в Духе свободы, Важность этого момента очевидна: Христос, как Глагол, никоим образом не нуждается в освобождении. Его смерть, следовательно, не освобождение - как бы из коры, которой можно было бы уподобить Его человеческую природу, воспринятую через Воплощение. Воплощенный Глагол умирает не для того, чтобы освободиться, но для того, чтобы освободить людей.
Другая черта: Его смерть — это дар. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15.13) . Смерть это печать дара жизни; смерть показывает, что дар этот невозвратим. Отдать свою жизнь значит не только пожертвовать собой, но и передать Свой собственный образ бытия — то, как Он живет в Троице, исходя из Отца и возвращаясь к Отцу. Передана именно связь с Отцом, т.е. то уникальное, что заключено в личности Христа. Он приносит самое дорогое, что у Него есть, т.е. Свой доступ к Отцу.
Почему для этого неминуемо должна была свершиться Его смерть? Смерть лишает Христа Его человеческой природы, исчезает «червъ, а не человек». Христу остается лишь Его личное (ипостасное, см. гл. 6) общение с Отцом. На поверхностный взгляд, Христос покинут Отцом. Но Он не покидает Отца. Он отдает себя Отцу, отдает в совершенном послушании, которое есть тропос, стиль, присущий исключительно Христу. Смерть Христа — это неумолимое сведение Его человеческой природы к игольному ушку тропоса, к ипостаси Христа, к Его единственному и неповторимому образу послушания Отцу. Всякий смысл неумолимо сводится к смирению, когда собственная воля приносится в жертву воне Отца (14). Отношения между приро-
12
дой и тем, что мы назвали стилем, в этом случае меняются местами: быть человеком это уже не значит обладать некоей природой, быть точно определенной частью мира, порабощенного грехом; это значит быть способным к определенному тропосу, иметь такие же «чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2.5). Христос, таким образом, есть человек по преимуществу.
Мы общаемся с Ним не только благодаря общности нашей природы, но, прежде всего, через подражание его ипостасному послушанию в любви, через стремление ограничить себя подобным же послушанием, одним словом, умирая вместе с ним (см. Рим. 6.5; Флп. 4.10).
То, что мы называем ограничением, — никоим образом не сведение личности к собственной душе посредством сосредоточения на самом себе (см. «Федон» Платона). Это скорее переход, экстатический выход из себя, так как ипостась, к которой мы сведены, есть переход. В смерти Христос покидает мир и идет к Отцу. Этот путь к Отцу — воплощение вечного пути Сына к Отцу в мире людей и времени. Это исход (см. Лк. 9.31), и в этом исходе, как некогда в исходе из Египта, открывается Божественное имя. «Когда вознесете (на крест) Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есмь и что ничего не делаю от Себя; но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Ин. 8.28). Божественное «Я есмь» раздается отныне, исходя от Креста. Имя Божье — общение в любви внутри Троицы, которое открывается и передается в послушании Сына Отцу.
6. Христианская смерть как подражание троической любви
Переход, о котором мы говорим, должно понимать исходя из Троицы. Смерть, понятую как деяние личности, нужно заменить другой моделью, а именно — смертью, осмысливаемой по аналогии с троичной жизнью. Тогда нужно говорить уже не о личности, но об ипостаси.
Христиане исповедуют в Боге одну субстанцию и три ипостаси — Отец, Сын и Дух Святой. Почему не сказать «три личности» — ведь иногда это вполне правомерно? Для того, чтобы избежать двойственности, заключенной в современном толковании понятия личности, — толковании, которое чаще всего означает принцип действия, сознающего себя и свое действие. (Иными словами — субъект, действуя, осознает и свое действие, и себя как источник этого действия. — Прим. ред.) Такое определение подходит для человеческой личности, но не для Троицы, в которой каждое действие, направленное вовне, к сотворенному миру, совершается вместе тремя ипостасями. Мы можем их различать только потому, что одна — Отец, другая — Сын и третья — Дух Святой, то есть по отношениям между ними. Эти
13
отношения невозможно отделить от ипостасей, они сами суть ипостаси. Отец есть рождение Сына и т.д.
Тогда что же такое ипостаси? Греческие Отцы говорят, что это образ бытия, способ существования (тропос существования). Мы видим, что тут снова появляется понятие тропоса, которое надо переводить совершенно буквально, т.е. как «поворот», — выше (см. гл. 2) мы его перевели как «оборот». Ипостась — место, где течение троичной жизни поворачивается, где оно обращается к другой ипостаси. Итак, Отец в любви обращается к Сыну, Который в Духе возвращается к Отцу. То, что таким образом обращается, и есть сама субстанция Бога. Божественность Бога — не нейтральная деичность, возвышающаяся над ипостасями, она — жизнь троичных отношений. Самое Божественное в Боге — это именно любовь, отдача себя другим. Божественная субстанция не нечто, к чему причастна каждая из ипостасей, но само общение, переход Божественности от одной ипостаси к другой. Такое общение предполагает, что ни одна ипостась не «обладает» Божественной субстанцией сама для себя, ни одна ипостась сама по себе не есть Божественность (15). Божественность — это совершенное общение. То, что составляет ипостась как таковую, отличая ее от других, не есть некая окончательная «несообщаемость». Единственное, чего ипостась не может передать (сообщить) - это того, что она отдает себя исходя из самой себя и ниоткуда более.
Из этого можно вывести христианское понимание смерти. В смерти Христос как человек испытывает точно то же, что Он переживает как Божественный Глагол в Троице, т.е. полную зависимость в любви. Так как он лишен своей человеческой природы и сведен к ипостасному послушанию, Он как человек испытывает то, что в Троице есть взаимная передача Божественной субстанции от одной ипостаси к другой. В смерти Христос не постигает ничего такого, чего бы Он уже не пережил в Троице. Смерть для Сына — не «обогащающий опыт» (как в романтическом гнозисе). Это мы, люди, нуждаемся в таком переходе. Смерть как переход есть воплощение в сотворенном триединого перехода от одной ипостаси к другой. Смерть - единственный для человеческой личности способ пережить переход любви, которая и есть Божественная жизнь. Из этого следует, что нельзя увидеть Бога, не умерев. Не потому, что смерть будто бы очищает око души, как у Платона. Но потому, что только через смерть возможно наше сведение к ипостаси, сведение, посредством которого мы можем подражать Божественной жизни, и так, и только так, стать причастными к ней (16). Именно в этом смысле можно сказать о смерти, что она то, что у меня есть наиболее «самостного»: смерть — незаменимое место самоотдачи.
14
7. Переход и приближение
Отношение христиан к смерти часто выбывает двойной упрек: или что они воспринимают смерть недостаточно серьезно, лишь как пек ни переход, или, наоборот, что смерть кажется им слишком страшной, тогда как она совершенно естественна. Христианская смерть как переход более опасна и следовательно, более страшна, чем смерть языческая. Мысль Эпикура (когда приходит смерть, меня уже нет, мне не придется страдать от неё) ценна только для индивидуума, но не для личности, и еще менее когда она (личность) жило по образу ипостаси. Дли христианства смерть обладает особым значением. Христос не только отнял у смерти жало, но и принял на себя всю ее тяжесть. Все же смерть - это не последняя реальность. Последняя реальность — это любовь, отдача себя. Только забыв об этом, можно вообразить, что христианство принесло в мир печаль (Лоренцо Валла, позже, в положительном смысле, Шатобриан).
Смерть как переход есть именно некий доступ, возможность умереть. Можно даже сказать, что смерть стала возможной только благодаря доступу Христа к Отцу. Невозможно умереть, скончаться, кроме как во Христе. Иначе смерть лишь неясное колебание между миром живых и неопределенным потусторонним. Граница, отделяющая человеческую жизнь от мира мертвых, становится все более четкой по мере того, как начинаешь понимать, что только через смерть можно достигнуть божественной жизни. К этому приближению сводится вся христианская жизнь; «Потому что чрез Него (Христа) и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф 2.18). И далее — о Христе: «...в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него» (Еф 3.12), Именно этот доступ, а не нечто невыразимое и непередаваемое делает человека личностью. Между христианами существует подлинное общение, ибо они умирают вместе со Христом Именно это решительным образом отделяет Христианскую Церковь (которую Новый Завет называет также politela) от политических обществ мира сего. Эти общество, согласно политической философии нового времени, порождены общим страхом смерти, которой каждый пытается избежать (Гоббс). Церковь же основана на общей готовности к смерти — готовности проистекающей из любви.
Кроме доступа к Отцу, апостол Павел называет среди других даров Христовых также panhesia, открытость, возможность со всем довернем открыться перед Богом, право сказать Ему все. Смерть Христа и Его переход к Отцу дают христианам обновленный язык для выражения новой свободы. В идеалистической концепции смерти, как мы уже видели, вещи умирают для того, чтобы из них появился освобожденный логос, — христиане исповедуют смерть самого логоса, и имен-
15
но эта смерть освобождает вещи. Весь мир освобожден благодаря тому, что вещи освобождены от безличного (лишенного связи с тролосом) логоса, который господствовал над ними. Сущностью мира был безличный закон. Сердце мира после Христа — такая любовь, которая называет каждого человека и каждую вещь по имени. Именно здесь можно привести частично справедливую идею так называемого «богословия смерти Бога»: смерть Христа освобождает мир. Не потому что она уничтожает силу, препятствующую невинности утвердиться (17), но потому что она открывает доступ к любви Отца, Который лишь один может наделить нас бесконечной свободой.
8. «Даждь кровь и приими Дух»
Смерть Христа как смерть Глагола освобождает человека, даруя ему свободу Духа Святого. Смерть предметов освобождает логос. Смерть Логоса, Глагола, освобождает Дух. Распятый Христос говорит: совершилось! и, преклонив главу, предает дух (Ин 19.30). Дуновение, исшедшее от Креста, есть Дух Святой, третья ипостась Божественной Троицы. В Троице Дух Святой есть отношения Отца и Сына, ставшие личностью, то, в чем происходит их свободный переход друг к другу и друг в друга в любви. Дар Духа, и только Он, делает возможной христианскую смерть, смерть, которая может быть пережита как следование Христу и подражание Сыну, второй ипостасти Троицы. Дар Духа, Который Сам есть личный дар, превращает жизнь в дар, становящийся нашей неотъемлемой собственностью именно в момент смерти. Именно это выражает древнее изречение отцов-пустынников. «Даждь кровь и приими Дух» (18). Здесь нет никакого обмена, никакого do ut des (даю, чтобы ты дал). Однажды пролитую кровь невозможно собрать. В Библии кровь — символ жизни. Отдавая кровь, мы отдаем самих себя. Это не отчуждаемый у нас товар, это отдает себя сама личность. Однако кровь и личность не суть одно и то же. Кровь выражает мое отношение к самому себе, кровь делает из меня единое живое тело, она осуществляет мое органическое единство. Изречение, следовательно, означает, что христианская жизнь состоит в замене домостроительства мира домостроительством Духа. Мой логос — закон моего бытия, это уже не я. Это очень хорошо знал апостол Павел, говоривший о «внутреннем человеке» (Еф. 3,16; 2 Kоp. 4-16) То, что делает меня мной, — это уже не мое «я», но Дух, Который уподобляет меня Христу, с тем чтобы подготовить меня к переходу к Отцу. То, что меня связывает с самим собой, моя «кровь», становится Духом, Который открывает мне доступ к Отцу, освобождая меня для Него, Моя кровь становится тогда пролившейся кровью Евхаристического Христа.
16
«Даждь кровь». Что означает здесь «отдать»? Отдано, в этом случае, тело. Христианин обладает только тем, что он отдал. Это общий закон христианской жизни, закон, который по Дионисию Мистику, можно назвать «иерархическим». Обладание есть дар. Это верно не только по отношению к внешним благам, но и в более широком смысле. Нечто становится моим по мере того, как я его отдаю. В сопоставлении с тем, как в нашем мире владеют и отдают, этот закон выглядит парадоксом: «Не так, как мир дает, Я даю» (Ин. 14.27). Мое — то, что могу отдать только я. Не потому что это в моем личном распоряжении, но потому что просят именно у меня. То же относится и к телу, к тому, что называют «своим» телом, ибо это то, что нам принадлежит более всего. В свете этого становится понятным, каким образом жизнь в Духе касается тела или, скорее, какова роль тела в смерти. Мы не знаем, что такое тело. Мы не можем его осмыслить иначе как отправляясь от его способности воскреснуть. Только благодаря воскресению мы узнаем, что такое тело, узнаем «то, что может тело» (Спиноза). Тело дано нам, чтобы мы могли умереть и воскреснуть (19).
Христианская жизнь — жизнь в ожидании воскресения. Брак один из примеров этого: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7.4), потому что они отдают друг другу свои тела. Брак состоит, следовательно, в отдаче своего тела, в его оставлении, в получении тела от другого. Вот почему брак, как и все таинства, есть опыт воскресения. Христианская жизнь достигает того, чего безуспешно пыталась достичь философия - предоления границ тела. Тело, как нечто, более всего нам принадлежащее, стесняет универсализм мысли. Христианское понимание не в том, чтобы абстрагироваться от тела и подняться до понятия, но в том, чтобы дать свести себя к ипостаси, что делает возможным переход в любви к Отцу и к ближнему.
Если христианская смерть состоит в отдаче своего тела, то мученичество есть христианская смерть по преимуществу. Ибо смерть эта есть самоотдача по преимуществу и переход к Отцу в подражании любви Сына. Только в мученичестве и воскресении телесная организация выявляется как домостроительство Духа (20), как обнажение готовности к явленной Отцом любви — любви, которая делает нас Его сыновьями.
17
ПРИМЕЧАНИЯ
1. См. Г. Симондон. Индивидуум и его физико-биологическое происхождение. Париж, ПЮФ, 1964.
2. Здесь следовало бы привести длинные выдержки из св. Максима. По поводу разграничения логоса и тропоса см. А. Риу. Мир и Церковь посв. Максиму Исповеднику. Париж, Бошень, 1973. стр. 73-79.
3. О попытке распространить понятие стиля за пределы области литературы см. Г. Г. Гранже.Эссе по философии стиля. Париж, Колен. 1968.
4. С. Малларме. Произведения. Париж, НРФ-Галлимар, 1961, стр. 70 и 368.
5. Можно, упрощая,, охарактеризовать античное понимание этой проблемы как властьлогоса Природы надчеловеком и как естественную тенденцию обожествлять могущество Природы.
6. См. Л. Фейербах. Сущность христианства, 2. Париж. Масперо, 1968, стр. 132.
7. См. М.Ж.- Гийу. Тайна Отца. Париж, Файар, 1973.
8. Эта идея исходит от Руссо, который прекрасно понимает, что она становиться необходимой, сели желание бесконечно. См Ж. Ж. Руссо Новая Элонза, VI. 8. Париж НРФ-Галлимар, 1961, т.2, стр. 693.
9. См. А. Рембо. Произведения Париж. НРФ-Галлимар, 1960. стр. 270.
10. См. Ж. Люшень. В двойственности смерти «Коммунно. Международныйкатолический журнал № 2, 1975.
11. См. Г. Шлиер. Начала и господства в Новом Завете. Париж, ДДБ, 1968.
12. Человек и его последний выбор Мюльхуз, Сальватор, 1966.
13. Об этом см. Л. Буйе. Вечный Сын. Париж, Сер, 1974. См. также Г. У. фон Бальтазар. Человеческое существование как Божественное слово. В кн.: Вера Христа. Париж, Обье, 1968, стр. 129-178. О смерти Глагола см. также Г. У. фон Бальтазар. О целостности. Париж, ДДБ, 1970, стр. 229-257 и 281-291.
14. Г. У. фон Бальтазар. Богословие Трех Дней. В кн.: Тайна спасения, Париж. Сер, 1972, стр. 99.
15. Именно поэтому триединый Бог не может быть понят как Абсолют. Абсолют есть позиции от себя и через себя, идентичность ипостаси с субстанцией. Представление, согласно которому Отец обладает Божественностью и только впоследствии передает ее Сыну, предполагает, что Отец толкуется неверно, т.e. как если бы Он был Абсолютом.
16. Восточная мудрость противопоставляет этому контрдовод. Наивысший этап созерцания и совершенной жизни может быть достигнут в этой, земной, жизни. Стоит отметить, что этот этап есть именно растворение ипостаси в бессознательном.
17. См. Ф. Ниццы. Сумерки богов. VI, 8. Здесь можно была бы процитировать замечания Э, Ауэрбаха, полагающего, что западный реализм как серьезное описание конкретной повседневной реальности стал возможным благодаря описанию Страстей Христовых. См. Мимезис. Париж, НРФ-Галлимар, 1968. стр. 53. См. также, об идее христианского искусства как личного зова вещей, В. Конгдон. Лицо мира и лик Христа. «Коммунио», № 1, стр. 60-66.
18. Авва Лонгин, 5. - Патрология 65, 257.
19. Это не попытка понять жизнь исходя из смерти. Биология делает это со времени Биша. О теле, способном к воскресению, см. К. Брюер, Философии тела. Париж, Сейль. 1968 стр. 263-268.
20. См. Мученичество Поликарпа. 11,2. См. также Ириней. Против ересей., V .2,3 и 3,2. Париж, Сер, 1969, стр. 34 и 46. (Серия «Христианские источники».)
18
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
