13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Лосский Владимир Николаевич
Лосский В.Н. Догматическое богословие
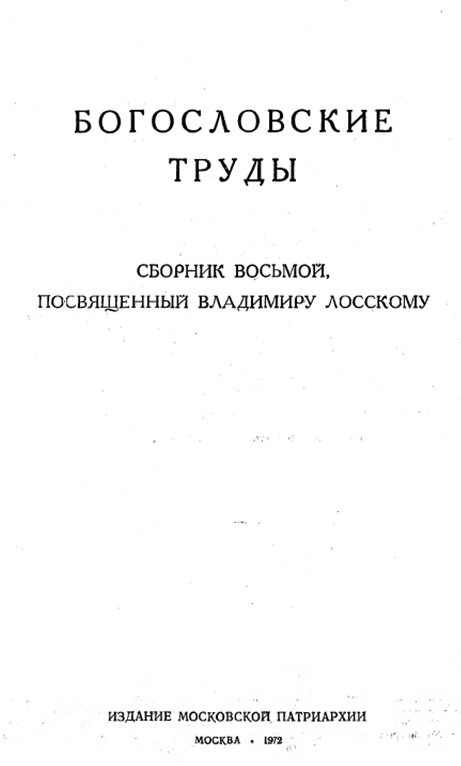
№ 8
БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ
СБОРНИК ВОСЬМОЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЛАДИМИРУ ЛОССКОМУ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ. ПАТРИАРХИИ МОСКВА . 1972
Вл. Лосский
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
I
(2) Путь отрицаний и путь утверждений 133
(3) Троица 136
(5) Происхождение Лиц и Божественные свойства 141
II
(6) Творение 144
(7) Триединый Бог — Творец и Божественные идеи 146
(8) Творение: время и вечность 148
(9) Творение: космический порядок 151
(11) Христианская антропология 157
III
(14) Воплощение 167
IV
(15) Христологический догмат 169
(16) «Образ Бога» и «образ раба» 172
(17) Две энергии, две воли 174
(18) «Два» и «одно» во Христе 176
(19) Искупление 178
(20) Воскресение 182
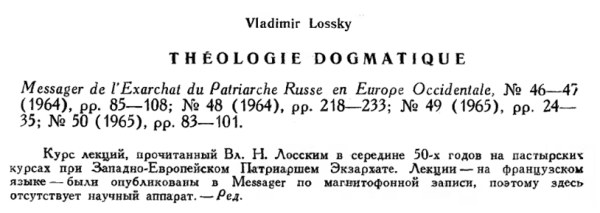
Бог — не предмет науки, и богословие радикальным образом отличается от философского мышления: богослов не ищет Бога, как ищут какой- либо предмет, но Бог Сам овладевает богословом, как может овладевать нами чья-то личность. И именно потому, что Бог первый нашел его, именно лотом у,- что Бог, так сказать, вышел ему навстречу в Своем откровении, для богослова оказывается возможным искать Бога, как ищем мы всем своим существом, следовательно и своим умом, чьего-либо присутствия. Бог богословия — это «Ты», это Живой Бог Библии. Конечно, это Абсолют, но Абсолют личностный, которому мы говорим «Ты» в молитве.
Отношение «Я—Ты» между верующим и личным Богом можно встретить не только в иудео-христианской традиции. Но там Бог — это Бог не Верховный и Единственный, а лишь один из многочисленных божественных персонажей политеизма. Вообще говоря, политеизм есть лишь низший аспект монотеизма. Однако Абсолют, в котором «боги» растворяются, никогда не бывает личностным. «Боги» и даже «личный» Бог индуизма — это только аспекты, только проявления некоего безличного абсолюта; проявления — для не-христианского Востока — столь же условные, как и мир, которому они предстоят, призванные, как и он, исчезнуть, раствориться в чистой самоуглубленности, в полной самотождественности. Тождественность же эта не знает «другого» и поглощает всякое личное отношение.
Точно так же в религии древней Греции боги должны были подчиняться анонимной, над всем господствующей «Необходимости». Философы полагали над этими богами не Лицо, а некий высший мир стабильности ή света, сферу красоты безличностного бытия. Так это у Платона, стоиков и даже у Аристотеля. А «нео-платонизм» приходит к «мистике погружений», отчасти напоминающей учения Индии.
Следует несколько задержаться на Плотине, чья мысль является, пожалуй, вершиной, достигнутой небиблейским античным миром. Мысль эту позднее усвоят и используют многие святые отцы, придав ей истин*- ную завершенность.
Для Плотина первая ступень познания осуществляется в мировой душе, объемлющей все многообразное единство вселенной; боги же суть не что иное, как многообразные ее проявления.
Выше, в человеке, как средоточии мира —его ум (нус, νους) как следующая ступень единства. Уровень нус есть также и уровень бытия, или, точнее: «нус» и «бытие», мысль и ее объект тождественны: объект существует потому, что он мыслится, мысль существует потому, что объект, в конечном счете, сводится к интеллектуальной сущности. Однако эта тождественность не абсолютна, поскольку выражается как некая обоюдность, в которой продолжает существовать сфера «другого». Следовательно, чтобы во всей полноте познать «Единое», надо подняться над уровнем нус.
Когда преодолеваешь грань мысли и мыслимой реальности, эту последнюю диаду бытия и интеллекта,—вступаешь в сферу не-интеллектуального
131
![]() и не-бытийного (отрицание указывает здесь на плюс, на трансцендентность). Но тогда неминуемо наступает молчание: нельзя дать имя неизреченному, ибо оно ничему не противопоставляется, ничем не ограничивается. Единственный способ достигнуть его,—это его не знать; не-знание, как прорыв в запредельность, есть экстаз. Философия достигает своего высшего предела и умерщвляет себя на пороге непознаваемого. «Единое» можно познавать только до и после экстаза, а это значит — его не познавать, поскольку это не экстаз. Во время же экстаза нет «другого», а значит нет и познания. Порфирий говорит, что в течение своей жизни Плотин находился в экстазе четыре раза. Но такое познание Божественной природы одновременно и совершается, и себя же в этом безличностном не-познании уничтожает.
и не-бытийного (отрицание указывает здесь на плюс, на трансцендентность). Но тогда неминуемо наступает молчание: нельзя дать имя неизреченному, ибо оно ничему не противопоставляется, ничем не ограничивается. Единственный способ достигнуть его,—это его не знать; не-знание, как прорыв в запредельность, есть экстаз. Философия достигает своего высшего предела и умерщвляет себя на пороге непознаваемого. «Единое» можно познавать только до и после экстаза, а это значит — его не познавать, поскольку это не экстаз. Во время же экстаза нет «другого», а значит нет и познания. Порфирий говорит, что в течение своей жизни Плотин находился в экстазе четыре раза. Но такое познание Божественной природы одновременно и совершается, и себя же в этом безличностном не-познании уничтожает.
В отличие от большинства религий и метафизических систем, где отношение «я—ты» при приближении к сфере собственно божественной исчезает, Библия утверждает непреложную изначальность Бога одновременно абсолютного и личного. Но здесь, при сравнении с полнотой христианского откровения мы видим другое ограничение: Бог евреев скрывает глубины Своей природы; Он проявляет Себя только Своей властью, и само Имя Его непроизносимо. Он окружает Себя неприступным светом, и человек не может увидеть Его и остаться живым. Ни подлинная взаимность, ни встреча лицом к лицу этой страшной божественной Монады и смиренной твари невозможны. Глаголы — только от Бога, от человека — только Мрак послушания и веры. Собственно «богословие», как понимают его отцы, для Израиля остается закрытым.
Итак, мы видим, что вне христианского учения противостоят друг другу:
— у иудеев (и позднее в Исламе, который авраамичен)—монотеизм^ утверждающий Бога как Личность, но не знающий Его природы: это — живой Бог, но не Жизнь Божественная;
— в мире античном (и доныне в традициях, чуждых традиции семитской) — монотеизм метафизический, предчувствующий природу Абсолюта, но не способный подойти к ней иначе, как путем растворения Era личности.
С одной стороны — мистика погружения, где познание Бога оказывается невозможным, потому что сама Его личность растворяется в неизреченном; с другой — личное послушание личному Богу, но без видения Божественной природы, познание которой запрещено Божественным Лицом, как бы Самим в Себе сокрытым.
С одной стороны — природа, поглощающая Лицо, с другой — Божественное Лицо, сокрывающее природу. Так вне христианского учения противостоят познание невозможное (поскольку оно отрицает и познаваемого и познающего) и познание запрещенное (поскольку нет общей меры, нет ничего посредствующего между Творцом и творением).
Христианство освобождает человека от этих двух ограничений, открывая одновременно во всей полноте личного Бога и Его природу. Тем самым оно завершает лучшее Израиля и лучшее других религий или метафизических систем, и не в каком-то синкретизме, но во Христе и через Христа; действительно, в Нем человечество соединено с Божеством, и Божественная природа сообщается природе человеческой, чтобы ее обожить. Это — ответ Израилю. Но Сын единосущен Отцу и Духу, и это — ответ безличностным метафизическим учениям. Божественная природа не «в н е» Личности, напротив: полнота этой природы — в общении Божественных Лиц, и сообщается она человеку через личное приобщение.
Но понять эти ответы не легко, и это завершение во Христе есть также и «соблазн» и «безумие».
«Для иудеев соблазн»: как Единый, трансцендентный Бог, не имеющий общей меры с человеком, может иметь Сына, Который Сам есть Бог и, однако, в то же время человек, уничиженный и распятый?
132
«Для эллинов безумие»: как может безличный Абсолют воплотиться в личности? Как может неподвижная вечность войти в сферу времени? Как может Бог стать именно тем, что необходимо преодолеть, чтобы в Нем раствориться?
Так христианство оказывается одновременно и завершением и соблазном; но, каковы бы ни были позиции не принимающих Христа «эллинов» и «иудеев», в Церкви, то есть в теле Того Слова, что всё — возглавляет, воздвизает, очищает и ставит на присущее ей место всякую истину, не должно быть никакого различия между эллинами и иудеями.
Здесь возникают две опасности: первая — когда богослов является «эллином» в Церкви, когда он настолько подчиняется модусу своего мышления, что «интеллектуализирует» Откровение, утрачивая библейское чувство конкретного и тот «экзистенциальный» характер встречи с Богом, которым определяется очевидный антропоморфизм Израиля. Этой опасности, существовавшей с эпохи схоластики вплоть до ученых 19-го столетия, в нашу эпоху соответствует опасность противоположная: опасность некоего искусственно построенного «библеизма», который пытается противопоставить традицию Израиля «философии греков» и преобразовать их теорию в чисто семитских категориях.
Однако богословие должно выражать себя на языке вселенском. Не случайно же Бог поместил отцов Церкви в греческую среду: требование философской ясности в сочетании с требованием глубины гносиса побудило их очистить и освятить язык философов и мистиков, дабы сообщить христианскому благовестию — вмещающему, но и превосходящему Израиль — всё его вселенское значение.
(2) ПУТЬ ОТРИЦАНИЙ И ПУТЬ УТВЕРЖДЕНИИ
Бог познается в Откровении как в личном общении. Откровение всегда есть откровение кому-то; оно состоит из встреч, которые образуют историю. Поэтому Откровение в своей полноте — это история, это историческая реальность, от сотворения мира до парусии [второго пришествия.— Ред.].
Таким образом, Откровение есть объемлющее нас «теокосмическое» отношение. Мы не можем не только познавать Бога вне Откровения, но и судить об откровении «объективно», то есть извне. Откровение не знает «внешнего», оно есть отношение между Богом и миром, внутри которого — хотим мы этого или нет — мы пребываем.
Но в имманентности Откровения Бог утверждает Себя трансцендентным творению. Если определить трансцендентное, как то, что ускользает из сферы нашего познания и нашего опыта, то надо будет сказать, что Бог не только не принадлежит к этому миру, но и трансцендентен самому Своему Откровению.
Бог имманентен и трансцендентен одновременно: имманентность и трансцендентность взаимно друг друга предполагают. Чистая трансцендентность невозможна: если мы постигаем Бога как трансцендентную причину вселенной, значит Он не чисто трансцендентен, так как само понятие причины предполагает понятие следствия. В диалектике Откровения имманентность позволяет нам именовать трансцендентное. Но не было бы и имманентности, если бы трансцендентность не была бы, в глубинах своих, недоступной.
Вот отчего мы не можем мыслить Бога в Нем Самом, в Его сущности, в Его сокровенной тайне. Попытки мыслить Бога в Нем Самом повергают нас в молчание, потому что ни мысль, ни словесные выражения не могут
133
заключить бесконечное в понятия, которые, определяя, ограничивают. Поэтому греческие отцы в познании Бога пошли путем отрицаний.
Путь негативный, апофатический, стремится познать Бога не в том, что Он есть (т. е. не в соответствии с нашим тварным опытом), а в том, что Он не есть. Путь этот состоит из последовательных отрицаний. Этим способом пользовались также неоплатоники и индуизм, ибо он неминуемо возникает перед всякой мыслью, устремляющейся к Богу, к Нему возносящейся. Путь этот достигает у Плотина своего крайнего предела, когда философия сама себя умерщвляет и философ превращается в мистика. Но вне христианства он приводит лишь к обезличиванию Бога и ищущего Его человека. Поэтому между таким исканием и христианским богословием лежит бездна, даже тогда, когда богословие, казалось бы, идет по стопам Плотина. Действительно, такие богословы, как Григорий Нисский или псевдо-Дионисий Ареопагит (в своем труде «Мистическое богословие»), видят в апофатизме не само Откровение, а лишь его вместилище: так они доходят до личного присутствия сокрытого Бога. Путь отрицания не растворяется у них в некоей пустоте, поглощающей и субъект и объект; личность человека не растворяется, но достигает предстояния лицом к Лицу с Богом, соединения с Ним по благодати без смешения.
Апофатизм состоит в отрицании всего того, что Бог не есть: сначала устраняется все тварное, даже космическая слава звездных небес, даже умопостигаемый свет небес ангельских. Затем исключаются самые возвышенные атрибуты — благость, любовь, мудрость. Наконец, исключается даже и само бытие. Бог не есть что-либо из этого; в самой природе Своей Он непознаваем. Он — «не-есть». Но (и в этом ©есь парадокс христианства) Он — тот Бог, Которому я говорю «Ты», Который зовет меня, Который открывает Себя, Личного, Живого. В литургии св. Иоанна Златоуста перед «Отче наш» мы молимся: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: Отче наш». В греческом тексте — буквально: «Тебя, ἐπουοάνιον Θεόν (Бога Сверхнебесного — Которого невозможно наименовать, Бога апофатического), — Тебя называть Отцом и сметь Тебя призывать». Молимся о том, чтобы иметь дерзновение и простоту говорить Богу «Ты».
Так рядом с путем негативным открывается путь позитивный, путь «катафатический». Бог сокровенный, пребывающий за пределами всего того, что Его открывает, есть также тот Бог, который Себя открывает. Он — мудрость, любовь, благость. Но Его природа остается в глубинах Своих непознаваемой, и именно потому Он Себя открывает. Постоянное памятование о пути апофатическом должно очищать наши понятия и не позволять им замыкаться в своих ограниченных значениях. Конечно, Бог мудр, но не в банальном смысле мудрости купца или философа. И Его премудрость не есть внутренняя необходимость Его природы. Имена самые высокие, даже имя «любовь» выражают Божественную сущность, но ее не исчерпывают. Это — те атрибуты, те свойства, которыми Божество сообщает о Себе, но при этом Его сокровенный источник, Его природа никогда не может истощиться, не может пред нашим видением объективироваться. Наши очищенные понятия приближают нас к Богу, божественные имена даже в каком-то смысле позволяют нам войти в Него, но никогда не можем мы постигнуть Его сущность, иначе Он определялся бы Своими свойствами: но Бог ничем не определяем и именно потому Он личен.
Св. Григорий Нисский в этом смысле толкует «Песнь Песней», в которой он видит мистический брак души (и Церкви) с Богом. Невеста, устремляющаяся за женихом — это душа, ищущая своего Бога. Возлюбленный появляется и ускользает — так же и Бог: чем более душа Его познаёт, тем более Он от нее ускользает и тем более она Его любит. Чем более Бог насыщает ее Своим присутствием, тем более жаждет она присутствия более полного и устремляется Ему вослед. Чем более она полна Богом, тем более обнаруживает она Его трансцендентность. Так душа
134
преисполняется божественным присутствием, но все больше погружается в неистощимую, вечно недостижимую сущность. Бег этот становится бесконечным, и в этом бесконечном раскрытии души, в котором любовь непрестанно восполняется и возобновляется, в этих «началах начал» св. Григорий и видит христианское понятие блаженства. Если бы человек знал самую природу Бога, он был бы Богом. Соединение твари с Творцом есть тот бесконечный полет, в котором чем более переполнена душа, тем блаженнее ощущает она это расстояние между нею и божественной сущностью, расстояние, непрестанно, сокращающееся и всегда бесконечное, которое делает возможной и вызывает любовь. Бог нас зовет, и мы объяты этим зовом, Его одновременно открывающим и сокрывающим; и мы не можем Его достичь иначе, чем лишь именно в этой с Ним связанности, а чтобы связь эта существовала, Бог в сущности Своей всегда должен оставаться для нас недосягаемым.
Уже в самом Ветхом Завете присутствует этот негативный момент: это образ мрака, который так часто употребляют христианские мистики: «мрак соделал покровом своим» (Пс. 17). И Соломон в своей молитве при освящении храма (Книга Царств) говорит Богу: «Ты, Который пожелал обитать во мраке». Вспомним также мрак Синайской горы.
Опытное познание этой трансцендентности присуще мистической жизни христианина: «Даже когда я соединен с Тобою, — говорит преп. Макарий, — даже когда мне кажется, что я больше от Тебя не отличаюсь, я знаю, что Ты — Господин, а я — раб». Это уже не неизреченное слияние Плотиновского экстаза, но личное отношение, которое, отнюдь не умаляя Абсолют, открывает Его как «Другого», т. е. всегда нового, неиссякаемого. Это есть отношение между личностью Бога, природой, которая сама по себе недосягаема (идея сущности здесь не ставит границы для любви, напротив, она указывает на логическую невозможность какого-то «достижения предела», что ограничивало бы Бога и как бы истощало Его), и личностью человека; человек даже й в самой немощи своей остается личностью, которая в соединении не исчезает, но преображается и остается, или, вернее, становится личностью полноценной. Иначе не было бы больше «religio», то есть связи, отношения.
Поэтому источник истинно христианского богословия — это исповедание Воплотившегося Сына Божия. В воплощении одно Лицо действительно соединяет в Себе непознаваемую, трансцендентную природу Божественную с природой человеческой. Соединение двух природ во Христе, это соединение природы Сверх-небесной и — даже до гроба, даже до ада — природы земной. Во Христе раскрывается непостижимое и дает нам возможность говорить о Боге, т. е. «Бого-словствовать». В этом именно и состоит вся тайна: человек смог увидеть (и видит) во Христе Бога, он смог увидеть (и видит) во Христе сияние Божественной природы. Это соединение без смешения в одном Лице божественного и человеческого исключает всякую возможность метафизического суждения, безотносительного к Троице и растворяющегося в безличном: это соединение, наоборот, завершает и утверждает откровение, как встречу и приобщение.
* * *
Так греческая мысль одновременно открыла и закрыла путь христианскому учению. Она открыла его, прославив Логос и небесную красоту если не Самого Бога, то во всяком случае Божественного. Она закрыла этот путь, направив мудреца к спасению бегством [évasion]. Многие противопоставляли мрачному христианскому учению «радость жизни» античного мира. Но делать подобное противопоставление значит забыть трагический смысл рока в греческом театре, забыть обостренный аскетизм Платона, ставившего знак равенства между телом и гробом (σῶμα— σῆμα), и тот дуализм, который он устанавливает между чувственным и умопостигаемым с тем, чтобы обесценить чувственное как только отражение и побудить
135
бежать от него. В каком-то смысле античная мысль подготовила не только христианское учение, в котором она сама себя превзошла, но более или менее грубый дуализм гностических систем и манихейства, где она судорожно восстает против Христа.
То, чего недостает этой мысли, что станет для нее одновременно возможностью свершения и камнем преткновения, — это реальность Воплощения. Блаженный Августин, вспоминая свою молодость, дает превосходное сопоставление античности и христианства. «Там я прочел, — говорит он, вспоминая свое открытие Эннеад, — что в начале было Слово (он находит Иоанна Богослова в Плотине), я прочел, что душа человека свидетельствует о свете, но что сама она не есть свет... Но я не нашел того, что Слово пришло в этот мир, и мир не принял Его. Я не нашел того, что Слово стало плотью. Я нашел, что Сын может быть равен Отцу, но не нашел, что Он Сам умалил Себя, смирил Себя до смерти крестной... И что Бог Отец даровал Ему имя Иисус».
Но это имя и есть начаток всяческого богословия.
(3) ТРОИЦА
Воплощение, эта отправная точка богословия—сразу же ставит в самом его средоточии тайну Троицы. Действительно, Воплотившийся не Кто иной, как Слово, то есть Второе Лицо Пресвятой Троицы. Поэтому Воплощение и Троица друг от друга неотделимы и, вопреки некоторой протестантской критике, вопреки либерализму, пытающемуся противопоставить богословию Евангелие, мы должны подчеркнуть, что православная триадология уходит своими корнями в Евангелие. Можно ли, действительно, читать Евангелие и не спросить себя: Кто же Иисус? И когда мы слышим исповедание Петра: «Ты Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16), когда евангелист Иоанн открывает перед нами в своем Евангелии вечность, то мы понимаем: единственный возможный ответ дает догмат о Пресвятой Троице: Христос — Единородный Сын Отчий, Бог, равный Отцу, тождественный с Ним по Божеству и отличный от Него по Лицу.
Основным источником нашего знания о Троице действительно является не что иное, как Пролог Евангелия от Иоанна (а также его 1-е послание), отчего автор этих дивных текстов и получил в православной традиции наименование «Богослов». С первого же стиха Пролога Отец именуется Богом, Христос — Словом, и Слово в этом «начале», которое здесь носит не временной, а онтологический характер, есть одновременно и Бог («в начале... Слово было Бог»), и Иной чем Отец: «и Слово было у Бога». Эти три утверждения св. евангелиста Иоанна «В начале было Слово — и Слово было у Бога-—и Слово было Бог» — зерно, из которого произросло все тринитарное богословие. Они сразу же обязывают нашу мысль утверждать в Боге одновременно тождество и различие.
Соблазнительно, конечно, взорвать эту антиномию, «рационализируя» тот или другой ее термин. Так с большей или меньшей отчетливостью выявились две важнейшие еретические тенденции: унитаризм и тритеизм.
Унитаризм часто принимал вид абсолютного монархианизма: в Боге существует только одно Лицо — Лицо Отца, а Сын и Дух суть Его эманации или силы. Свое наиболее законченное выражение это учение получило в III веке, в модализме Савеллия, где исчезает само понятие Лица. По Савеллию, Бог — безликая сущность, различным образом являющая себя миру. Три Лица суть лишь три последовательные модусы действий, три проявления в мире одной и той же Монады, которая в себе всегда проста. При сотворении мира Бог принимает облик Отца. Таким образом, Отец есть аспект первой фазы божественного проявления, связанной с книгой Бытия и райским состоянием. Но грех изменил отношение между Богом и человеком; эра Отца окончилась, и Бог принял другой облик, облик Сына,
136
полное проявление Которого соответствовало Воплощению. С Вознесения Сыновний облик Божества растворился в неразличимой сущности и появился новый облик — облик Духа. Наконец, на Суде, когда вселенная будет обожена, всё снова войдет в неразличимую Монаду. Итак, эта Троица поочередных проявлений остается чистой видимостью и нисколько» не затрагивает самой реальности Бога: Лица здесь всецело поглощены природой.
Противоположная ересь — тритеизм — никогда не проявлялась в чистом виде. Но если и не могло быть сформулировано абсурдное учение о Троице «разнородной», то мы все же часто встречаем известное ослабление троичной взаимосвязанности: это Троица не равночестная и, в конечном счете, «ослабленная». До Никейского Собора субординационистские тенденции были очень сильны в христианском мышлении, и, в частности, у Оригена. Под влиянием умеренного платонизма Отца отождествляли с верховным единством, что привело к тому, что Сына можно было различать только по принципу субординации. Божественная сущность Сыну не принадлежит. Он только причастен Божественной природе Отца. Так Логос становился орудием Единого, а Святой Дух, в свою очередь, служил орудием Сыну для прославления Отца.
У Ария эта тенденция превратилась в ересь, раскалывающую троичное единство. Арий отождествлял Бога с Отцом и тем самым постулировал, что всё, что не есть Бог, — тварно. Следовательно, Сын, поскольку Он отличен от Отца, сотворен, и различение Лиц превращается в онтологическую расколотость. Этот тварный Сын в свою очередь сотворил Духа, и Троица сводится к некоей иерархии, где нижний служит орудием для высшего, — к Троице, рассеченной неодолимой чертой, проходящей между тварным и нетварным. Рождение превращается в сотворение. Сын и Дух — «внук» — оказываются тварными существами, радикально отличными от божественного Отца, и триада существует только в результате разрыва монады.
Напротив, вера, ревностно хранимая Церковью, единым движением, единым порывом объемлет в Боге единство и различие. Но не одно только чувство, но и ум наш также должен быть религиозным, мысль также должна раскрываться навстречу истине, вернее — ни то, ни другое в отдельности, но все наше существо в едином горении и трезвении. Торжество христианской мысли — в том, что она выработала в течение первых четырех веков, особенно в четвертом, преимущественно «тринитарном» веке, то определение, которое дало язычникам возможность провидеть полноту Пресвятой Троицы; это была не рационализация христианства, но христианизация ума, превращение философии в созерцание, насыщение мысли тайной, которая не есть какой-то скрываемый от всех секрет, а свет неистощимый. Этот грандиозный подвиг, осуществленный усилиями Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, а также св. Илария Пиктавийского, дал в конце концов Церкви возможность выразить термином Ὁμοούσιος тайну Три-Единого Божества. ‘Ομοούσιος означает единосущный, тождественный по сущности, со-сущностный, это то прилагательное, которое определяет Сына как Бога, иного чем ὁ Θεός, — Того же, но не Отца.
«Слово было у Бога», — говорит св. евангелист Иоанн в Прологе своего Евангелия,— πρὸς τὸν Θεόν указывает на движение, на динамическую близость; можно было бы перевести скорее «к», чем «у»: «Слово было к Богу». Таким образом πρὸς содержит в себе идею отношения; это отношение между Отцом и Сыном есть предвечное рождение; так само Евангелие вводит нас в жизнь Божественных Лиц Пресвятой Троицы.
Именно Евангелие открывает нам и тринитарное «положение» Св. Духа, как третьей ипостаси в Троице, и те отношения, которые подчеркивают Его личностную «единственность». Достаточно прочесть в Евангелии от Иоанна последние беседы Спасителя с апостолами: «И Я умолю Отца,
137
и даст вам другого Утешителя (Защитника), да пребудет с вами вовек, Духа Истины» (14, 16—17), и далее: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое» (14, 26). Итак, Дух — иной, чем Сын (Который также Утешитель), но Дух послан во имя Сына, чтобы свидетельствовать о Нем: таким образом, Его отношение к Сыну состоит не в противопоставлении или разобщении, но в различии и взаимной соотнесенности, т. е. в общении с Отцом.
То же следует сказать и об отношении Духа с Отцом: «Дух Истины. Который от Отца исходит» (15, 26), Дух иной, чем Отец, но соединен с Ним отношением исхождения, Ему свойственного и отличного от рождения Сына.
Сын и Дух открываются нам в Евангелии как два Божественных Лица, посланные в мир; Одно, — чтобы соединиться с нашей природой и ее возродить, Другое, — чтобы оживить личную нашу свободу. У каждого из этих двух Лиц свое особое отношение к Отцу (рождение и исхождение); между ними также существует отношение взаимной соотнесенности: именно благодаря очищению Пречистой Девы Духом, Сын мог быть дан людям, и по молитве вознесшегося одесную Отца Сына людям послан Дух («Утешитель, Которого пошлю вам от Отца», — 15, 26). И эти два Лица явлены нам в приоткрывшейся перед нами вечности как равночестные Отцу и сущностно с Ним тождественные. Они трансцендентны миру, в котором действуют: Они Оба действительно «у» Отца, Который не приходит Сам в мир; и Их близость к Отцу, Источнику божественной природы, завершает в нашей мысли представление о Троице в Ее непостижимости, неизменности и полноте.
Великой проблемой IV века было выразить божественное единство и различие, одновременность в Боге монады и триады. Мы видим у отцов подлинное претворение языка: используя то термины философские, то слова, заимствованные из повседневного языка, они так преобразовали их смысл, что сообщили им способность обозначать ту поразительную и новую реальность, которую открывает только христианство — реальность личности: в Боге и в человеке, ибо человек — по образу Бога; в Троице и возрожденном человечестве, ибо Церковь отражает жизнь божественную.
Чтобы выразить общую для Трех реальность, «разделяя между Тремя неделимое Божество», как говорит Григорий Богослов, отцы выбрали слово у ей я (οὐσία). Это был термин философский, означавший «сущность», но вульгаризировавшийся; его стали употреблять, например, в значении «имущество» или «владение». В этом слове, родственном глаголу «быть (εἰμί) звучал онтологический отголосок, поэтому оно могло подчеркнуть онтологическое единство Божества, тем более, что этот корень заключался в термине ὁμοούσίος, уже христианизированном Никейским Собором для обозначения со-сущностности Отца и Сына. Однако и ομοοόσιος, и ούσία подчеркивали тождественность, что было созвучно более позднему эллинистическому мышлению, сосредоточенному, как мы уже говорили, на экстатическом открытии Единого. Но δμοούσιος вводило нечто и безмерно новое, ибо выражаемая им тождественность сущности соединяла два необратимо различных Лица, не поглощая их в этом единстве. Необходимо было именно утвердить эту тайну «другого» — нечто на этот раз радикально чуждое античной мысли, онтологически утверждавшей «то же», и обличавшей в «другом» как бы распадение бытия. Знаменательным для такого мировоззрения было отсутствие в античном лексиконе какого бы то ни было обозначения личности, ибо латинское persona и греческое πρόσωπον обозначали ограничительный, обманчивый и в конечном счете иллюзорный аспект индивидуума; не лицо,
138
открывающее личностное бытие, а лицо-маска существа безличного. Действительно, πρόσωπον — это маска или роль актера. «Другой» здесь совершенно поверхностен и не имеет как таковой никакой глубины. Неудивительно поэтому, что отцы предпочли этому слабому, а возможно и обманчивому слову другое, строго однозначное, смысл которого они совершенно переплавили; слово это — ипостась, ὑπόστασις.
Если «усия» было, по-видимому, понятие философское, постепенна вульгаризировавшееся, то «ипостась» было словом обиходным, начинающим приобретать философское значение. В языке обыденном это слово значило «существование», но у некоторых стоиков оно приняло значение отдельной субстанции, значение индивидуального. В общем, термины «усия» и «ипостась» были почти что синонимами; оба они относились к бытию, причем первый обозначал скорее сущность, второй — особенность, хотя все же нельзя чрезмерно оттенять различие между ними (у Аристотеля действительно термин «первичные усии» имеет значение индивидуального существования, а «ипостась», как позднее отметил св. Иоанн Дамаскин, иногда значит просто существование). Эта относительная эквивалентность благоприятствовала выработке христианской терминологии: ведь не существовало никакого более раннего контекста, который мог бы нарушить равновесие между двумя терминами, посредством которых святые отцы желали подчеркнуть равные достоинства: таким образом можно было избежать риска дать перевес безличной сущности. Практически усия и ипостась были вначале синонимами: оба термина относились к сфере бытия; сообщив каждому из них отдельное значение, отцы могли впредь беспрепятственно укоренить личность в бытии и персонализировать онтологию.
Усия в Троице — это не абстрактная идея Божества, не рациональная сущность, которая связывала бы три божественные индивидуума, подобно тому, как, например, человеческие свойства являются общими для трех людей. Апофатизм придает этому термину металогическую глубину непознаваемой трансцендентности, Библия окружает «усию» преславным сиянием божественных имен. Что же касается слова «ипостась» (именно здесь появляется под влиянием христианского учения мысль подлинно новая), то оно уже полностью утрачивает значение «индивидуального». Индивидуум принадлежит виду, вернее, он является одной из его частей: индивидуум «делит» природу, к которой принадлежит, он есть, можно сказать, результат ее атомизации. Ничего подобного нет в Троице, где каждая ипостась содержит Божественную природу во всей ее полноте. Индивидуумы одновременно и противопоставлены, и повторны: каждый из них обладает своим «осколком» природы, и эта бесконечно раздробленная природа остается всегда одной и той же без подлинного различия. Ипостаси же, напротив, бесконечно едины и бесконечно различны — они суть божественная природа; однако ни одна из них, обладая природой, ею не «владеет», не разбивает ее, чтобы ею завладеть; именно потому, что каждая ипостась раскрывается навстречу другим, именно потому, что они разделяют природу без ограничений, она остается неразделенной.
И эта неразделенная природа сообщает каждой ипостаси ее глубину, подтверждает ее совершенную неповторимость, проявляется в этом единстве Единственных, в этом общении, где каждое Лицо без смешения всецело причастно двум Другим: природа тем более едина, чем более различны Лица, ибо ничто из общей природы от Них не ускользает; Лица тем более различны, чем более они едины, ибо их единство — это не безличное единообразие, а плодотворная напряженность безусловного различия, преизбыток «взаимопроникновения без смешения или примеси» (св. Иоанн Дамаскин).
Так тринитарное богословие открывает перед нами новый аспект человеческой реальности — аспект личности. Действительно, античная философия не знала понятия личности. Мышление греческое не сумело выйти
139
за рамки «атомарной» концепции индивидуума, мышление римское следовало путем от маски к роли и определяло «личность» ее юридическими отношениями. И только откровение Троицы, единственное обоснование христианской антропологии, принесло с собой абсолютное утверждение личности. Действительно, у отцов личность есть свобода по отношению к природе: она не может быть никак обусловлена психологически или нравственно. Всякое свойство (атрибут) повторно: оно принадлежит природе, и мы можем его встретить и у других индивидуумов, даже определенное сочетание качеств можно где-то найти. Личностная же неповторимость есть то, что пребывает даже тогда, когда изъят всякий контекст, космический, социальный или индивидуальный — все, что может быть выражено. Личность несравненна, она «совершенно другое». Плюсуются индивидуумы не по личности. Личность всегда «единственна». Понятие объективирует и собирает. Поэтому только методически «деконцептуализируемая» отрицанием мысль может говорить о тайне личности, ибо этот ни к какой природе не сводимый «остаток» не может быть определен, но лишь показан. Личное можно «уловить» только в личном общении, во взаимности, аналогичной взаимному общению ипостасей Троицы, в той раскрытости, которая превосходит непроницаемую банальность мира индивидуумов. Ибо подойти к личности — значит проникнуть в мир личный, одновременно замкнутый и открытый, в мир высочайших художественных творений, а главное — иной раз в совсем незаметный, но всегда неповторимо единственный мир чьей-то отданной и сосредоточенной жизни.
* * *
Божественные свойства (атрибуты) относятся к общей природе: разум, воля, любовь, мир свойственны всем трем Ипостасям и не могут определять их различие. Невозможно дать абсолютное определение каждой ипостаси, обозначив ее одним из божественных имен. Мы уже говорили, что единственность личности не поддается никакому определению, личность может быть воспринята лишь в ее отношении с другой личностью; поэтому единственно возможный способ различения ипостасей состоит в том, чтобы уточнить их взаимоотношения, в особенности их отношение с общим источником Божества, с «Божеством-Источником» — Отцом. «Нерожденность, рожденность, исхождение отличают Отца, Сына и Того, Кого именуем мы Духом Святым», — пишет св. Григорий Богослов. Нерожденнность Отца Безначального (в этом основная идея Единоначалия Отца, на огромном значении которого мы остановимся позже), рожденность Сына и исхождение Дух а — таковы отношения, позволяющие нам различать Лица. Но здесь необходимы два замечания: во-первых, эти отношения обозначают, но не обосновывают ипостасного различия. Различие есть та абсолютная реальность, которая коренится в тройственной и изначальной тайне божественных Лиц, и наша мысль, которую тайна эта бесконечно превосходит, может лишь указать на нее негативным образом, то есть утверждая, что безначальный Отец — не Сын и не Дух Святый; что рожденный Сын — не Святый Дух и не Отец; что Дух от Отца исходящий — не Отец и не Сын, И еще: эти отношения суть не отношения противопоставленности, как утверждает латинское богословие, а просто отношения различности: они не делят природу между Лицами, но утверждают абсолютную тождественность и не менее абсолютное различие ипостасей, и, что особенно важно, отношения эти для каждой ипостаси тройственны, и никогда не могут быть сведены к отношениям двусторонним, предполагающим именно противопоставление. Действительно, невозможно ввести одну из ипостасей к диаду, невозможно представить себе одну из них без того, чтобы немедленно не возникли две другие: Отец есть Отец только в соотношении с Сыном и Духом. Что же до рождения Сына и исхождения Духа, то они как бы «одновременны», ибо Одно предполагает Другое.
140
Применительно к Троице этот отказ от противопоставления, а, следовательно, и от двойственности, в более широком аспекте есть отказ от числа, или, вернее, превосхождение числа: «Бог есть равно Монада и Триада», —говорит св. Максим Исповедник. Он — и Едино-Троичен и Триедин, с двояким равенством, где 1=3 и 3=1. Св. Василий Великий в своем труде о Духе Святом останавливается на этом «мета-математическом» аспекте: «Действительно, мы не считаем путем сложения, чтобы от единства придти к множественности, ибо мы не говорим: один, два и три, или первый, второй, третий. «Я Бог Первый, Я и Последний» (Ис. 44, 6). Однако о Боге втором мы до сего дня еще ничего не слыхали, потому что, поклоняясь «Богу Богов», мы исповедуем различие ипостасей, сохраняя единоначалие».
Превосхождение Монады: Отец есть всецелый дар Своего Божества Сыну и Духу; если бы Он был только Монадой, если бы Он отождествлялся со Своей Сущностью, а не отдавал ее, Он не был бы вполне личностью. Вот почему Бог Ветхого Завета — не Отец: личный, но сокрытый в Самом Себе, Он тем более страшен, что может вступать в сношения только с существами ино-природными; отсюда и Его «тиранический» облик: между ним и человеком нет взаимности. Именно поэтому св. Кирилл Александрийский считал, что имя «Отец» выше имени «Бог». Если Бог — таков лишь для тех, кто не боги, то Отец есть Бог для Сына, Который ни в чем не ниже Его: в раскрытии библейской Монады имя «Отец» открывается как внутреннее имя Бога.
При раскрытии монады личностная полнота Бога не может остановиться на диаде, ибо «два» предполагает взаимное противопоставление и ограничение; «два» разделило бы божественную природу и внесло бы в бесконечность корень неопределенности. Это была бы первая поляризация творения, которое оказалось бы, как в гностических системах, простым проявлением. Таким образом, божественная реальность в двух Лицах немыслима. Превосхождение «двух», то есть числа, совершается в «трех»; это не возвращение к первоначальному, но совершенное раскрытие личного бытия. Действительно, «три» здесь — не итог сложения; три абсолютно различные реальности не могут быть исчислены; три Абсолюта не подлежат сложению; «три», пребывающее за пределами всякого исчисления, за пределами всякого противопоставления, устанавливает абсолютную различность. Трансцендируя число, оно не начинает и не замыкает ряда, но раскрывает за пределами «двух» бесконечность: не непроницаемость пребывания в себе, не самопоглощение в возврате в Единое, а открытую беспредельность живого Бога, неистощимый преизбыток божественной жизни. «Монада приходит в движение в силу Своего богатства; диада преодолена, ибо Божество превыше и материи и формы: триада замыкается в совершенстве, потому что она первая превзошла состав диады». Тайна, о которой говорит здесь терминами Плотина св. Григорий Богослов, раскрывает перед нами за пределами всякой логики и всякой метафизики иную сферу бытия. Здесь вера питает мысль и возносит ее над ее границами к тому созерцанию, цель которого есть участие в божественной жизни Пресвятой Троицы.
(5) ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛИЦ И БОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА
Христианское богословие не знает абстрактного божества: нельзя смыслить Бога вне трех Лиц. «Усия» и «ипостась» почти синонимы, как бы лля того, чтобы сокрушить наш рассудок, не дать ему объективировать божественную сущность вне Лиц и их «вечного движения в любви» (св. Максим Исповедник). Этот Бог конкретен, ибо Единое Божество одновременно обще трем ипостасям и присуще каждой из них: Отцу, как Источнику, Сыну — как Рожденному, Духу — как от Отца Исходящему.
141
Термин единоначалие (монархия) Отца был обычным в великом богословии IV века; он означает, что самый Источник Божества — личен. Отец есть Божество, но именно потому, что Он — Отец, Он сообщает Свое Божество во всей его полноте двум другим Лицам; Они берут свое начало от Отца, μόνη (ἀρχή) как от Единого Начала — откуда термин «монархия». «Божество — Источник», — говорит об Отце Дионисий Ареопагит. Именно от Него «изливается», в Нем «коренится» тождественное и нераздельное, но различно сообщаемое Божество Сына и Духа. Итак, понятие «единоначалие» одним словом обозначает в Боге единство и различие, исходящее от Единого Личного Начала. Св. Григорий Богослов, величайший богослов Пресвятой Троицы, мог говорить об этой тайне только в форме поэтической, потому что только поэзия способна в словах явить потустороннее. «Они не разделены в воле, — пишет он, — они не разделены в могуществе» и ни в каких других свойствах. «И скажем всё до конца: Божество нераздельное в Разделяющих». «В, трех солнцах, проникающих одно в другое, свет был бы един», потому что Слово и Дух суть два луча одного и того же Солнца, или «вернее, они два новых Солнца».
Итак, Троица есть изначальная тайна, Святая Святых божественной реальности, сама жизнь Бога сокрытого, Бога Живого. Только поэзия может представить нам эту тайну, именно потому, что поэзия славословит и не претендует на объяснения. Троица первична по отношению ко всякому существованию и всякому знанию, которые в ней находят свое обоснование. Троица не может быть постигнута человеком. Она сама объемлет человека и вызывает в нем славословие. Когда же мы говорим о Троице, вне славословия и поклонения, вне личного отношения, дарованного верой, язык наш всегда неверен. Когда Григорий Богослов пишет о Трех, как о «нераздельных в воле», то это значит, что мы не можем сказать, что Сын рожден по воле Отца: мы не можем мыслить Отца без Сына, Он — «Отец с Сыном», и так было вечно, ибо в Троице нет действия, и даже говорить применительно к ней о «состоянии» значило бы предполагать несоответствующую Ей пассивность. «Когда наша мысль обращается к Божеству, Первопричине, Единоначалию, то нам открывается Единое; когда же она обращается к Тем, в Ком пребывает Божество, к Тем, Кто в одной вечности и славе происходят от Первоначального, мы поклоняемся Трем» (св. Григорий Богослов).
Не предполагает ли Единоначалие Отца известной субординации Сына и Духа? Нет, ибо Начало тогда только совершенно, когда оно — начало реальности равносовершенной. Греческие отцы охотно говорили об «Отце — Причине», но это только термин по аналогии, всю недостаточность которого мы можем понять, когда следуем очищающим путем апофазы: в обыденном нашем опыте причина всегда выше следствия; в Боге же причина, как совершенство личной любви, не может производить следствия менее совершенные, она хочет их равночестными и потому является также причиной их равенства. К тому же в Боге нет противопоставления причины следствию, но есть причинность внутри единой природы. Здесь «причинность» не влечет за собой ни внешнего следствия, как в мире материальном, ни следствия, растворяющегося в своей причине, как в иерархических онтологических системах Индии или у неоплатоников; «причинность» здесь только несовершенный образ неизреченного общения. «Отец был бы Началом только скудных и недостойных вещей, более того, Он был бы Началом в мере скудной и недостойной, если бы Он не был Началом Божества и благости, которым поклоняемся мы в Сыне и Духе Святом: в одном —как Сыне и Слове, в другом — как в Духе, без разлучения исходящем» (св. Григорий Богослов). Отец не был бы истинным Отцом, если бы не был полностью обращен «к», πρός, другим Лицам, полностью сообщен Тем, которых Он соделывает Лицами, а значит в полноте Своей любви — Себе равными.
142
Итак, Троица есть не результат процесса, а первичная данность. Ее качало только в Ней Самой, а не над Ней; нет ничего, что бы ее превосходило. «Начало», монархия проявляется только в Троице, через Троицу и для Троицы, в отношениях Трех, отношениях всегда тройственных, исключающих всякое противопоставление, всякую диаду.
Еще св. Афанасий Великий утверждал, что рождение Сына есть действие по природе, а св. Иоанн Дамаскин в VIII веке различает действие по природе — рождение и исхождение, от действия по воле — сотворение мира. Впрочем, действие по природе не есть действие в собственном смысле этого слова, но оно есть само бытие Бога, ибо Бог по Своей природе есть Отец, Сын и Дух Святой. Бог не имеет надобности открывать Себя Самому Себе, путем некоего осознания Отца в Сыне и Духе, как, скажем, мыслил о. Сергий Булгаков. Откровение мыслимо только по отношению к иному, чем Бог, то есть к творению. Так точно, как троичное бытие не есть результат акта воли, невозможно усматривать в нем процесс внутренней необходимости.
Поэтому надо тщательно различать причинность Отца, которая поставляет ипостаси в их абсолютном различии, но не полагает между ними Никакого порядка, от Его откровения или явления. Дух через Сына приводит нас к Отцу, в Котором мы «открываем» единство Трех. Отец, по терминологии св. Василия Великого, открывает Себя через Сына в Духе. И здесь утверждается некий процесс, некий порядок, которым обуславливается порядок имен: Отец, Сын и Дух Святой.
Так же и все божественные имена, которые передают нам общую жизнь Трех, исходят от Отца через Сына в Духе Святом. Отец есть источник, Сын — явление, Дух — Сила являющая. Поэтому Отец есть источник Премудрости, Сын — сама Премудрость, Дух — сила, усвояющая нам Премудрость; или: Отец есть Источник любви, Сын — любовь, Себя открывающая, Дух — любовь, в нас осуществляющаяся; или же еще по прекрасной формулировке митрополита Филарета: Отец — любовь распинающая, Сын — любовь распинаемая, Дух — любовь торжествующая. Божественные имена суть излияния божественной жизни; источает ее Отец, показует ее нам Сын, сообщает Дух.
Византийское богословие называет эти божественные имена энергиями: именно этот термин наилучшим образом передает превечное сияние божественной природы; он гораздо лучше, чем школьно-богословские «атрибуты» или «свойства», дает нам представление об этих живых силах, этих излияниях, этом преизбытке божественной славы. Ибо теория нетвар- ных энергий — глубоко библейская по духу. Библия часто говорит о пламенеющей и гремящей Славе, которая позволяет познать Бога вне Его Самого, сокрывая Его в потоках света. Св. Кирилл Александрийский говорит о великолепии являющей себя божественной сущности. Непрестанно повторяются, отображая сияние ослепительной красоты, светозарные термины, которые здесь отнюдь не метафора, а выражение высочайшего опытного созерцания. Божественная Слава многообразна: «Многое и друг гое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21,25).
Так же весь мир не может вместить и бесчисленных имен Славы. «Силы (δυνάμεις)» — говорит о них св. Дионисий Ареопагит, причем употребляет то единственное число, то множественное. Число здесь не существенно. Не одно, не многие, но бесчисленные имена Божии. Бог есть Мудрость, Любовь, Справедливость... но не потому, что Он этого хочет, а потому, что Он таков. Имена — не личины. Бог показует Себя таким, каков Он есть. Мы не можем познать глубину божественной сущности, но мы знаем то излучение славы, которое есть истинно Бог: назовем ли мы божественную природу сущностью, поскольку она есть неисчерпаемая трансцендентность, назовем ли ее энергией, поскольку она являет себя в славе, это всегда одна и та же природа. «И ныне прославь Меня Ты,
143
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17, 5). Итак, энергии-проявления не зависят от творения: они суть то вечное сияние, которое нисколько не обусловлено бытием или небытием мира. Конечно, мы обнаруживаем их и в тварном мире, «ибо невидимое Его, вечная слава Его и Божество, от создания мира через рассмотрение творений видимы» (Рим. 1, 20). На тварном лежит печать Божества. Но это божественное присутствие есть присносущная и вечная слава, ничем не обусловленное проявление самой по себе непознаваемой сущности. Это — Свет, который превечно объемлет совершенную в себе самой полноту троичной жизни.
(6) ТВОРЕНИЕ
Мир был сотворен Божественной волей. Он — иноприроден Богу. Он существует вне Бога «не по месту, но по природе» (св. Иоанн Дамаскин). Эти простые утверждения веры подводят нас к тайне столь же бездонной, как и тайна бытия Божественного — это тайна бытия тварного, реальность бытия внешнего по отношению к божественному вездесущию, свободного по отношению к божественному всемогуществу, совершенно нового по своему внутреннему содержанию перед лицом Троичной полноты, одним словом, это реальность иного, чем Бог, неуничтожимое онтологическое сгущение другого.
Одно только христианство, или, точнее, иудео-христианская традиция, обладает абсолютным понятием тварного. Творение «из ничего» (ex nihilo) есть догмат веры. Эта вера нашла первое свое выражение в Библии, во Второй книге Маккавеев (7, 28), где мать, увещевая сына идти на мученичество, говорит: «посмотри на небо и на землю, ты увидишь всё, что они содержат, и поймешь, что Бог сотворил их из ничего» (ἐκ ούκ ὔνυων, «из не сущих» — по переводу Семидесяти). Если мы вспомним, что οὐκ — отрицание радикальное, не оставляющее в отличие от другой отрицательной частицы μή ни малейшего места сомнению, и что здесь оно употребляется систематически, вопреки правилам грамматики, то оценим всю выразительность этого οὐκ. Бог творил не из чего-то, а из того, чего нет, из «небытия».
Ничего подобного нет в других религиях или метафизических системах: в одних учениях творческий акт совершается, исходя из некоей возможности устроения бытия, извечно предоставленной демиургу. В античной философии такова «первичная» материя, которую оформляет неизменное бытие. Сама по себе материя реально не существует; она есть чистая возможность бытия. Конечно, это то же «небытие», но μὴ ὄν, а не οὐκ ὄν: то есть не абсолютное ничто. Отображая, материя получает некое правдоподобие, становится как бы слабым напоминанием мира идей. Таков прежде всего дуализм Платона, и таково же, с некоторыми незначительными различиями, вечное «оформление» материи у Аристотеля.
В других учениях мы встречаем идею творения как божественного процесса. Бог творит из Самого Своего бытия, нередко путем первичной поляризации, которая порождает все многообразие вселенной. Здесь мир есть проявление, или эманация, Божества. Такова основная концепция индуизма, ее же мы видим вновь в эллинистическом гносисе, к которому очень близко мышление Плотина, устремленное к монизму. Здесь космогония становится теогонией. В своем постепенном нисходящем «уплотнении» Абсолютное от этапа к этапу становится все более относительным, проявляя себя в мире, низводя себя до него. Мир — это падший Бог, который стремится снова стать Богом; мир возникает вследствие либо какой-то таинственной катастрофы, которую можно было бы назвать падением Бога,
144
либо какой-то внутренней необходимости, какого-то странного космического «влечения», в котором Бог стремится осознать Самого Себя, либо в результате смены временных циклов проявлений и замыканий Бога в Себе Самом, как бы довлеющих самому Богу.
В обоих этих вариантах отсутствует идея творения «из ничего» — ех nihilo. В христианском же учении сама материя тварна. Та таинственная материя, о которой Платон говорит, что она может быть постигнута только при помощи «побочных понятий», эта чистая «возможность» бытия — сама тварна, как замечательно показал блаж. Августин. С другой стороны, как могло бы тварное иметь нетварный субстрат? Как могло бы оно быть каким-то дублированием Бога, если по самой своей сущности оно есть иное, чем Бог?
Итак, творение — это свободный акт, дарственный акт Бога. Для Божественного существа оно не обусловлено никакой «внутренней необходимостью». Даже те нравственные мотивы, которыми иногда пытаются обосновать творение, лишены смысла и безвкусны. Бог-Троица есть полнота любви. Чтобы изливать Свою любовь, Он не нуждается в «другом», потому что другой — уже в Нем, во взаимопроникновении ипостасей. Бог потому Творец, что пожелал им быть. Имя «Творец» вторично по отношению к трем именам Троицы. Бог — превечно Троица, но не превечно Творец, как мыслил Его Ориген, плененный циклическими представлениями античного мира, чем и ставил Его в зависимость от тварного. Если нас как-то смущает идея творения, как акта совершенно свободного, причина этого лишь в том, что наша искаженная грехом мысль отождествляет свободу с произволом, и тогда Бог действительно представляется нам каким-то одержимым фантазиями тираном. Но если для нас свобода, не связанная с законами тварного мира (внутри которого пребываем), есть разрушающий бытие злой произвол, то для Бога, трансцендентного творению, свобода бесконечно добра — "она вызывает к жизни бытие. Действительно, в творении мы видим порядок, целеустремленность, любовь — всё противоположное произволу. В творении действительно проявляются те «качества» Бога, которые не имеют ничего общего с нашей беспорядочной псевдосвободой. Само бытие Бога отражается в твари и зовет ее к соучастию в Его Божестве. И для тех, кто пребывает в тварном мире, этот зов Божий и возможность на него отвечать являются единственным оправданием творения.
Творение «из ничего» (ех nihilo) есть акт Божественной воли. Поэтому св. Иоанн Дамаскин и противопоставляет его рождению Сына. «Поскольку рождение, — говорит он, — есть действие природное и исходит из самой сущности Бога, оно должно быть безначальным и превечным, иначе рождение вызывало бы изменение, был бы Бог «до» и Бог «после» рождения. Бог умножался бы. Что же до творения, то оно есть дело Божественной воли и потому Богу не совечно. Ибо невозможно, чтобы вызванное из небытия к бытию было бы совечно Тому, что Одно безначально и вечно. Сотворение мира не есть необходимость. Бог мог бы и не творить его. Но необязательное для самого троичного бытия, оно обязывает творение существовать и существовать навсегда; будучи условной для Бога, тварь сама для себя «безусловна», ибо Бог свободно соделывает творение тем, чем оно должно быть.
Так перед нами раскрывается положительный смысл Божественного дара. Если употребить аналогию (но в этой аналогии кроется весь смысл творения), этот дар подобен щедрости поэта. «Поэт неба и земли», — можем мы сказать о Боге, если дословно переведем с греческого текст Символа веры. Так можем мы проникнуть в тайну тварного бытия: творить — это не значит отражаться в зеркале, даже если зеркало есть первичная материя; это также и не значит напрасно раздробляться, чтобы затем всё снова в Себе собрать; творить значит вызывать новое; творение, если можно так выразиться, — это риск нового. Когда Бог вызывает не из
145
Самого Себя новый «сюжет», сюжет свободный — это апогей его творческого действия; божественная свобода свершается в сотворении этого высочайшего риска — в сотворении другой свободы.
Вот почему нельзя объективировать первичное «ничто». Nihil здесь просто означает то, что «до» сотворения ничего «вне» Бога не существовало. Или, вернее, что эти «вне» и «до» абсурдны, если они обусловлены именно сотворением. Пытаться мыслить это «вне» значит столкнуться с «ничто», то есть с невозможностью мыслить. Это «вне» существует только благодаря творению, оно есть та самая «пространственность», которая и составляет творение. Так же невозможно представить себе, что было «до» сотворения: в Боге «начало» не имеет смысла, оно рождается вместе с тварным бытием; именно акт сотворения и устанавливает время, категориями которого являются «до» и «после». Как «вне», так и «до» сводятся к тому nihil, которое упраздняет мысль. И то и другое — сказали бы немцы — суть «предельные понятия». Поэтому вся диалектика бытия и небытия абсурдна. Небытие не имеет собственного своего существования (что было бы, между прочим, противоречием in adjecto). Оно соотнесено с самим тварным бытием, которое обосновывается не самим собой, не Божественной сущностью, а одной лишь Божественной волей. Это отсутствие собственного основания и есть небытие. Так, незыблемое, непреходящее для твари — это ее отношение к Богу; по отношению же к самой себе она сводится к «nihil».
«Новое» твари ничего не добавляет к бытию Божию. В наших понятиях мы оперируем противопоставлениями, в соответствии с «вещными» принципами воображения, но нельзя произвести сложения Бога и вселенной. Здесь мы должны мыслить аналогиями, одновременно подчеркивая соотношение и различие: ибо тварь существует лишь в Боге, в той творческой воле, которая именно и соделывает ее отличной от Бога, то есть тварью. «Тварные существа поставлены на творческом слове Божьем, как на алмазном мосту, под бездной божественной бесконечности, над бездной собственного своего небытия» (Филарет Московский).
(7) ТРИЕДИНЫЙ БОГ-ТВОРЕЦ И БОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕИ
Творение — дело Пресвятой Троицы. Символ веры именует Отца «Творцом неба и земли», о Сыне говорит: «Имже вся быша», Духа Святого называет «Животворящим», ζωοποιόν. Воля Трех едина, она является творческим действием; поэтому Отец не может быть Творцом без того, чтобы не был Творцом Сын и не был Творцом Дух. «Отец творит Словом в Духе Святом» — неоднократно встречаем мы у отцов, а св. Ириней Лионский называет Сына и Духа «двумя руками Божиими», Это — икономическое, домостроительное проявление Троицы. Три Лица творят совместно, но каждое присущим Ему образом, и тварное бытие есть плод их сотворчества. По слову Василия Великого, Отец — первопричина всего сотворенного, Сын — причина действующая, Дух — причина совершенствующая. Имеющее свое начало в Отце, действие Пресвятой Троицы проявляется в двойной икономии Сына и Духа: Один осуществляет волю Отца, Другой завершает ее в добре и красоте; Один призывает тварь, чтобы привести ее к Отцу, и зов этот сообщает тварному всю его онтологическую конкретность, Другой помогает ей ответить на этот зов, сообщая ей совершенство.
Говоря о проявлении домостроительства Пресвятой Троицы, отцы предпочитают имени «Сын», которое скорее указывает на внутритроичные отношения, имя «Слово». Действительно, Слово есть проявление, откровение Отца — следовательно, откровение кому-то, что в свою очередь связывает понятие «Слово» с областью домостроительства. Св. Григорий Богослов в своем четвертом богословском слове анализирует эту функцию
146
Слова. Он говорит, что Сын есть Логос, ибо, оставаясь единым с Отцом, Он Его открывает. Сын дает нам определение Отца: «Итак, Сын и есть краткое и простое выражение природы Отца».
У каждой твари есть свой «логос», свой «сущностный смысл». Следовательно, — говорит св. Григорий Богослов, — может ли существовать что- либо, что не утверждалось бы на Божественном Логосе? Нет ничего, что не основывалось бы на «смысле всех смыслов» — Логосе. Всё было создано Логосом; именно Он сообщает тварному миру не только тот «порядок», о котором говорит Само Его имя, но и всю его онтологическую реальность. Логос — это божественный Очаг, откуда исходят те творческие лучи, те присущие каждой твари «логосы», те «непреходящие» словеса Божии, которые одновременно вызывают к бытию всю тварь и призывают ее к Богу. Таким образом, каждое тварное существо имеет свою «идею», свой «смысл» в Боге, в замысле Творца, Который созидает не по прихоти, но «разумно» (и в этом еще одно значение Логоса). Божественные мысли — это извечные причины тварных существ. Здесь в умозрении отцов как бы звучит отголосок Платона, но можно ли это определить как христианский платонизм? Краткое сопоставление позволит нам понять, что если отцы и использовали некоторые элементы греческой философии, то полностью обновили их содержание, которое, в конечном счете, является у них гораздо более библейским, нежели платоновским.
У Платона «идеи» представляют самую сферу бытия. В мире чувственном нет истины, в нем есть только правдоподобие; он реален лишь в меру своей причастности идеям. Чтобы их, идеи, созерцать, необходимо вырваться из зыбкого мира изменчивости, из смены рождений и распада. Идеи — более высокий уровень бытия: это не Бог, но божественное. «Демоны», то есть боги, сравнительно с идеями находятся на более низком уровне. «Творение», о котором говорится в «Тимее», — всё же миф, потому что мир существовал всегда: его извечно устрояет «демиург», копируя его по образу мира идеального, истинного. Неоплатонизм, который, по определению Жана Валя (Jean Wahl), «ипостазирует гипотезы Платона», ставит неизреченное Единое над κόσμος νοητός (космосом познаваемым); здесь идеи суть мысли Божественного Разума, того «Нус», который является эманацией Абсолюта, превосходящего само бытие. Блаженный Августин, прочитав переведенные на латинский язык отрывки Эннеад, поддался очарованию этой платоновской тематики. Но греческие отцы, знавшие философов гораздо лучше, с большой легкостью сумели подняться над их мыслью и использовали ее совершенно свободно. Для отцов Бог есть не только Разум, содержащий божественные идеи; Его сущность превышает идеи. Он — Бог свободный и Личный, Который всё творит Своей волей и Своей премудростью; идеи всех вещей содержатся в этой Его воле и этой премудрости, а не в самой Божественной сущности. Следовательно, греческие отцы равно отказались как вводить умозрительный мир во внутреннее бытие Бога, так и отделять его от мира чувственного. Присущее отцам чувство божественного бытия побудило их отвергнуть Бога «умозрительного», а их чувство тварного не позволило свести тварное к дурной копии. Сам блаженный Августин в последние годы своей жизни отказался в своих Retractationes от косвенного дуализма своей статичной системы «прообразов». «Двух миров не существует», —решительно заявил он в этом труде. Тем не менее, его учение об идеях, содержащихся в самом бытии Божием, как определения сущности и как причины всего тварного^ утвердилось в западном богословии и заняло значительное место в системе Фомы Аквината. В православии же, напротив, представляется немыслимым, чтобы Бог в Своем творчестве довольствовался «репликой» на Свою собственную мысль, в конечном счете — на Себя Самого. Это значило бы лишить тварный мир его оригинальности и самоценности, принизить творение, а значит и Бога, как его Творца. Ведь вся Библия, и, в особенности, книга Иова, Псалмы, Притчи, подчеркивает совершенную и великолепную
147
новизну творения, перед которым радостно восклицали ангелы; творения- благословения книги Бытия, творения-игры книги Премудрости, «этого дивно сочиненного гимна всемогущей Силе», как пишет св. Григорий Нисский.
Так, греческие отцы увидели в платонизме проблеск некоей реальности, но проблеск не полный и опасный; не дуализм, но проницаемость видимого для невидимого. Они без колебания пользовались языком Платона, говоря о «парадигмах» и «идеях». Но у них этот язык проникнут истинно библейским уважением к миру чувственному и благоговением перед Живым Богом. Они сближают Логос с «глаголами», о которых говорят псалмы, и, в особенности, с теми творящими словами, которые звучат в книге Бытия. Здесь идеи являются у них уже не необходимым определением божественного существа, но творческой волей, живым словом Божиим. Это не «потусторонний» фон тварного, но сама его глубина, модус причастности тварного божественным энергиям, его призвание к высочайшей любви. Творческая воля Бога предполагает порядок и разум, она засевает живыми идеями все «пространство» тварного, она требует для своего распространения некое «вне» божественной природы. Св. Иоанн Дамаскин в своем «Изложении православной веры», говоря о творении, пользуется терминами «идеи-воления» или «волящие мысли». Таким образом, божественные идеи неотделимы от творческого произволения. Бог несомненно мыслил вселенную извечно в отношении к тому «другому», которое должно было начаться, то есть положить начало времени. Так, по слову Священного Писания, именно Премудрость утверждает семь столпов дома. Здесь мир платоновских идей опрокинут, они суть орудия, творения, а не «потусторонность» тварного. Бог, сотворяя, мыслит творение, и эта мысль и придает бытию вещей его реальность. Идеи — это премудрость божественного действия, или, вернее, Премудрость в действии, если угодно, даже «образы», но образы динамические, образы «волений-мыслей», «мыслей-слов», в которых коренятся «логосы» вещей: божественным словом мир вызван из своего небытия, и есть слово для всего существующего, слово в каждой вещи, для каждой вещи, слово, которое является нормой ее существования и путем к ее преображению. Святой, тварная воля которого свободно соработает волениям-идеям Божиим, его утверждающим и зовущим, в своем бесстрастном созерцании природы провидит мир, как некое «музыкальное согласие»: в каждом творении слышит он слово Слова, и в этом ревностном чтении «книги вселенной» каждая тварь теперь для него уже есть слово пребывающее, потому что «небо и земля прейдут, словеса же Мои не прейдут».
(8) ТВОРЕНИЕ: ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ
«В начале было Слово», — пишет св. Иоанн Богослов, а Библия утверждает: «В начале Бог сотворил небо и землю». Ориген отождествляет эти два текста: «Бог, — говорит он, — всё сотворил в Своем Слове, значит Он сотворил всю вечность в Самом Себе». Мейстер Экхарт также сближает эти тексты: «начало», о котором говорится в этих двух «in principio», есть для него Бог — Разум, содержащий в Себе и Слово, и мир. Арий же, смешивая греческие омонимы γέννησις (рождение) и γένεσις (творение), утверждает противоположное, истолковывает Евангелие от Иоанна в терминах книги Бытия и тем самым превращает Сына в творение.
Отцы, желая подчеркнуть одновременно непознаваемость Божественной сущности и Божество Сына, проводят различие между этими двумя «началами»: различие между действием природы, первичным бытием Бога, и действием воли, предполагающим отношение к «другому», которое определяется самим этим отношением. Так, Иоанн Богослов говорит о начале
148
превечном, о начале Логоса, и здесь слово «начало», употребляемое в аналогичном смысле, обозначает превечное отношение. Но это же слово в книге Бытия употреблено в собственном своем смысле, когда от внезапного появления мира «начинается» и время. Мы видим, что онтологически книга Бытия по отношению к Прологу Евангелия от Иоанна вторична: два эти «начала» различны, хотя и не совершенно чужды друг другу: вспомним о божественных идеях-волениях, о Премудрости, одновременно и вечной, и обращенной к тому «другому», которое и должно было, в собственном смысле слова, «начаться». Ведь сама Премудрость возглашает: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих искони» (Притч. 3, 22).
Итак, «начало» первого стиха книги Бытия обозначает сотворение времени. Так устанавливается отношение между временем и вечностью, и это проблема того же порядка, что и проблема творения «ex nihilo».
Здесь необходимо преодолеть два затруднения. Первое — опасность оказаться «эллином», то есть подходить к данным Библии с чисто метафизической точки зрения и пытаться рассудочно истолковывать их таинственную символику так, что взлёт веры оказался бы просто ненужным. Но богословию нет надобности клянчить разъяснений у философов; оно само может дать ответ на их проблемы, но не вопреки тайне и вере, а питая разум тайной, преображая его верой, так что в постижении этих тайн участвует весь человек. Истинное богословие превосходит и преображает метафизику.
Вторая опасность: по ненависти к философам оказаться только «иудеем», то есть понять конкретный символизм Священного Писания буквально. Некоторые современные экзегеты, в особенности (но не исключительно) протестанты, стараются тщательно изгнать из своего образа мыслей всё, что хоть сколько-нибудь напоминает философию. Так, Оскар Кульман в своей книге «Христос и время» считает нужным отбросить, как наследие Платона и греческой философии, все проблемы, связанные с вечностью, н мыслить Библию на уровне ее текста. Но Библия — это глубина; древнейшие ее части, и, прежде всего, книга Бытия, развертываются по законам той логики, которая не отделяет конкретного от абстрактного, образа от идеи, символа от символизируемой реальности. Возможно, это логика поэтическая или сакраментальная, но примитивность ее — только кажущаяся; она пронизана тем Словом, которое придает телесности (не отделяя ее от слов и вещей) несравненную прозрачность. Наш язык уже не тот; возможно, менее целостный, но более сознательный и четкий, он совлекает с архаического разумения обволакивающую его плоть и воспринимает его на уровне мыслимого; повторяем, не рационалистического рассуждения, а созерцательного разумения. Поэтому, если современный человек хочет истолковать Библию, он должен иметь мужество мыслить, ибо нельзя же безнаказанно играть в младенца; отказываясь абстрагировать глубину, мы, уже в силу самого того языка, которым пользуемся, тем не менее абстрагируем,— но уже только одну поверхность, что приводит нас не к детски восхищенному изумлению древнего автора, а к инфантильности. Тогда вечность, подобно времени, становится линейной: мы мыслим ее как какую- то неоконченную линию, а бытие мира во времени, от сотворения до пришествия, оказывается всего лишь ограниченным отрезком этой линии... Так вечность сводится к какой-то временной длительности без начала и конца, а бесконечное — к неопределенному. Но во что же превращается трансцендентность? Чтобы подчеркнуть все убожество этой философии (потому что, как-никак, это всё же философия), достаточно напомнить, что конечное несоизмеримо с бесконечным.
Ни эллины и ни иудеи, но христиане — отцы Церкви дали этой проблеме то разрешение, которое не богохульствует, оскорбляя Библию рационализмом или пошлостью, а постигает ее во всей ее глубине.
Для Василия Великого первое мгновение времени еще не есть время:
149
«как начало пути еще не путь, как начало дома еще не дом, так и начало времени — еще не время, ни даже малейшая часть времени». Это первое мгновение мы не можем помыслить, даже если примитивно определим мгновение как точку во времени (представление неверное, как показал блаж. Августин, ибо будущее непрестанно становится прошлым, и мы никогда не можем уловить во времени настоящее). Первое мгновение — неделимо, его даже нельзя назвать бесконечно кратким, оно — вне временного измерения: это — момент-грань, и следовательно, стоит вне длительности.
Что же такое «мгновение»? Вопрос этот занимал уже античную мысль- Зенон, зайдя в тупик со своей беспощадной рационализацией, сводил понятие времени к абсурду, поскольку оно есть —или, вернее, не может быть — одновременно покой и движение. У Платона, более чуткого к тайне, мы находим замечательные мысли о том «внезапном», которое, как он говорит, есть не время, а грань, и тем самым — прорыв в вечность. Настоящее без измерения, без длительности являет собой присутствие вечности.
Именно таким видит Василий Великий первое мгновение, когда появляется вся совокупность бытия, символизируемая «небом и землей». Тварь возникает в некоей «внезапности», одновременно вечной и временной, награни вечности и времени. «Начало», логически аналогичное геометрическому понятию грани, например, между двумя плоскостями, есть своего рода мгновенность; сама по себе она вневременна, но ее творческий порыв; порождает время. Это — точка соприкосновения Божественной воли с тем, что отныне возникает и длится; так что само происхождение тварного есть изменение, есть «начало», и вот почему время является одной из форм тварного бытия, тогда как вечность принадлежит собственно Богу. Но эта изначальная обусловленность нисколько тварного бытия не умаляет: тварь никогда не исчезнет, потому что слово Божие непоколебимо (1 Пет. 1, 25).
Сотворенный мир будет существовать всегда, даже когда само время упразднится, или, вернее, когда оно, тварное, преобразится в вечной новизне эпектаза.
Так встречаются в единой тайне день первый и день восьмой, совпадающие в дне воскресном. Ибо это одновременно и первый и восьмой день недели, день вхождения в вечность. Семидневный цикл завершается божественным покоем субботнего дня; за ним — предел этого цикла — воскресенье, день сотворения и воссоздания мира. «Воскресения день», как «внезапность» вечности, как день первой и последней грани. Развивая идеи Александрийской школы, Василий Великий подчеркивает, что перед этой тайной воскресного дня не следует преклонять колена: в этот день мы не рабы, подвластные законам времени: мы символически входим в Царство, где спасенный человек стоит «во весь свой рост», участвуя в сыновстве Воскресшего.
Итак, говоря о вечности, следует избегать категорий, относящихся ко времени. И если, тем не менее, Библия ими пользуется, то делается это для того, чтобы посредством богатой символики подчеркнуть позитивное качество времени, в котором созревают встречи Бога с человеком, подчеркнуть онтологическую автономность времени, как некоего риска человеческой свободы, как возможность преображения. Прекрасно это чувствуя, отцы воздерживались от определения вечности «а contrario», т. е. как противоположности времени. Если движение, перемена, переход от одного состояния в другое суть категории времени, то им нельзя противопоставлять одно за другим понятия: неподвижность, неизменность, непреходящесть некоей статичной вечности; это была бы вечность умозрительного мира Платона, но не вечность Бога Живого. Если Бог живет в вечности, эта живая вечность должна превосходить противопоставление движущегося времени и неподвижной вечности. Св. Максим Исповедник подчеркивает, что вечность мира умопостигаемого — вечность тварная: пропорции, истины, неизменяемые структуры космоса, геометрия идей, управляющих тварным миром,
150
сеть математических понятий это — эон, эоническая вечность, имевшая, подобно времени, начало (откуда и название-— эон: потому что он берет свое начало «в веке», 27 спот, и переходит из небытия в бытие); но это вечность не изменяющаяся и подчиненная вне-временному бытию. Эоническая вечность стабильна и неизменна; она сообщает миру взаимосвязанность и умопостигаемость его частей. Чувствование и умопостижение, время и эон тесно связаны друг с другом, и так как оба они имеют лачало, они взаимно соизмеримы. Эон — это неподвижное время, время — движущийся эон. И только их сосуществование, их взаимопроникновение позволяет нам мыслить время.
Эон находится в тесной связи с миром ангелов. Ангелы и люди участвуют и во времени, и в эоне, но различным образом. Человек находится в условиях времени, ставшего умопостигаемым благодаря эону, тогда как ангелы познали свободный выбор времени только в момент их сотворения; это была некая мгновенная временность, из которой они вышли для эона хвалы и служения, или же бунта и ненависти. В эоне существует, однако, некий процесс, потому что ангельская природа может непрестанно возрастать в стяжании вечных благ, но это совершается вне временной последовательности. Так, ангелы предстоят перед нами как умопостигаемые миры, участвующие в «устрояющей» функции, которая присуща эонической вечности.
Божественная же вечность не может быть определена ни изменением, свойственным времени, ни неизменностью, свойственной эону. Она трансцендентна и тому и другому. Необходимая здесь апофаза запрещает нам мыслить Живого Бога в соответствии с вечностью законов математики.
Таким образом, православное богословие не знает нетварного умопостигаемого. В противном случае, телесное — как единственно тварное — представлялось бы относительным злом. Нетварное превосходит все противопоставления— чувственного и умопостигаемого, временного и вечного. И проблема времени вновь возвращает нас к тому небытию, из которого воздвигает нас Божественная воля, дабы иное, чем Бог, вошло в вечность.
(9) ТВОРЕНИЕ: КОСМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
«В начале сотворил Бог небо и землю». Небо и земля первого дня, о которых идет здесь речь, это не то небо и не та земля, которые мы видим, ибо наше видимое небо появляется лишь с «твердью» второго дня, или даже со «светилами» четвертого, а наша видимая земля — с отделением в третий день суши. «Небо и земля» первого дня означают всю вселенную, мир видимый и невидимый, умозрительный и вещественный. Небо — это вся беспредельность духовных миров, объемлющих наше земное бытие, это бесчисленные ангельские сферы. Книга Бытия упоминает о них, но затем как бы перестает ими интересоваться и говорит только о земле. Несколько кратких указаний на эти духовные миры встречаются, как вехи, в обоих Заветах, но эти упоминания никогда не получают развития. Так, святой Григорий Нисский видит в 99 овцах, оставленных на высотах, символ ангельской полноты, сотая же, заблудшая овца — это наш земной мир. В нашем падшем состоянии мы фактически не можем определить места нашей вселенной среди беспредельных миров.
Это относительное умолчание Священного Писания знаменательно. Оно подчеркивает центральное значение земли, оно определяет некий геоцентризм. Это не остаток какой-то примитивной космологии (впрочем, разве космологии такого рода не символичны в известной мере?), космологии, не соответствующей нашей послекоперниковской вселенной. Геоцентризм здесь не физический, а духовный: земля духовно центральна, потому что она — плоть человека, потому что человек прорываясь сквозь бесчис-
151
ленное видимое, чтобы связать его с невидимым, есть существо центральное, — то существо, которое объединяет в себе чувственное и сверхчувственное и потому с большей полнотой, чем ангелы, участвует во всем строе «земли» и «неба». В центре вселенной бьется сердце человека, и только святой, чье очищенное сердце объемлет самые отдаленные туманности, может постигнуть, не являются ли эти «звездные сферы» своего рода отражением ангельских эонов и потому не нуждаются в спасении.
Итак, тайны божественного домостроительства совершаются на земле, и вот почему Библия приковывает наше внимание к земле. Она не только запрещает нам рассеиваться в беспредельных космических мирах (которые, кстати сказать, наша падшая природа может познавать лишь в их разобщенности), она не только хочет освободить нас от узурпации падших ангелов и соединить с одним Богом, но говорит об ангелах, показывая их обращенными к земной истории, к той истории, в которую включается божественное домостроительство, говорит о них как о служителях (или врагах) этого домостроительства.
Таким образом, Шестоднев геоцентрически повествует о том, как развертывалось сотворение мира; эти шесть дней — символы дней нашей недели, — скорее иерархические, чем хронологические. Отделяя друг от друга созданные одновременно в первый день элементы, они определяют концентрические круги бытия, в центре которых стоит человек, как их потенциальное завершение.
«Земля же (здесь имеется в виду весь наш космос) была безвидна и пуста, и тьма над бездною» — это смешение еще не дифференцированных элементов. «Дух Божий носился над водою», «как птица, высиживающая птенцов»,— говорит Василий Великий, и воды обозначают здесь (как и воды крещенские) пластичность элементов.
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Это — первое повеление Бога. Его слово вторгается в элементы и вызывает первое «оформление» бытия — свет; таким образом, свет — совершенство тварного бытия, «светоносная сила», вызванная излучающимися от Логоса «логосами-волениями», оплодотворяющими тьму. Следовательно, это не столько физические колебания, сколько «свет разума».
И Бог производит полярность света и тьмы. «И отделил Бог свет от тьмы». Эта тьма принадлежит к тварному бытию, и ее не следует смешивать с первоначальным «ничто», с той таинственной гранью, которой мы сообщили бы таким образом грубую субстанциональность. Тьма («назвал Бог тьму «ночью»»), появляющаяся в последней фазе «первого дня» — это потенциальный момент тварного бытия. Она представляет совершенна «добрую», плодотворную реальность, подобную земле, которая дает рост зерну. Бог не создавал зла; в бытии первого дня нет места для тьмы негативной. Позитивная тьма первого дня выражает утробную тайну плодородия, принцип тайны жизни, тайны, свойственной земле и чреву, всему тому, что рождает — в позитивном смысле слова — всякую жизненную субстанцию.
На второй день Бог окончательно отделяет воды низшие от высших, т. е. земной космос, ограниченный «твердью небесной», от ангельских эонов, о которых в дальнейшем книга Бытия ничего больше не говорит.
На третий день начинают по божественному повелению отделяться друг от друга космические элементы, неопределенность которых символизировалась «водами». Воды — уже в прямом смысле этого слова — собираются, и появляется суша. Ей повелевается производить растения — первую форму жизни.
И земля послушна Логосу, Началу жизни, Который есть одновременно Второе Лицо Пресвятой Троицы и Ее устрояющая Сила.
На четвертый день появляются светила с их равномерным вращением, повеление Логоса вписывается в порядок видимого неба: жизнь, возникшая в предшествующий «день», требует времени, ритмической смены дня
152
и ночи. Творческая единовременность первых дней становится для твари последовательностью.
На пятый день Слово сотворяет рыб и птиц: вода, влага (как элемент) получает повеление их произвести. Так устанавливается любопытное сближение между существами плавающими и летающими (внешние формы которых действительно не лишены сходства), между водой и воздухом, обладающими общими свойствами текучести и влажности. Здесь мы ясно ощущаем, что перед нами не космогония в современном смысле этого термина, но некое иное видение бытия и его иерархичности, видение, для которого решающее значение имеет тайна формы, «вторичные качества» чувственного мира (столь пренебрегаемые наукой), обращающие нас к умозрительным глубинам, к «логосам» творения; это видение стало очень трудным для нашей падшей природы, но мы можем вновь обрести его в «новой твари», в Церкви, как в литургическо-сакраментальном космосе, так и в θεοπία φυσική подвижников.
На шестой день земля (как элемент) в свою очередь получает повеление произвести животных. И вдруг тон повествования меняется: появляется новый образ творения. «Сотворим» говорит Бог. Что означает это изменение?
Сотворение ангельских духов произошло «в молчании» (св. Исаак Сирин). Первым словом было «свет». Затем Бог повелевает и благословляет («и увидел Бог. что это хорошо»). Но на шестой день, после сотворения животных, когда Бог говорит: «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему», кажется, что Он останавливается, и что Лица Пресвятой Троицы совещаются. Появляющееся здесь множественное число указывает на то, что Бог не есть одиночество, что сотворение мира не обусловлено ни необходимостью, ни произволом: оно — свободный и обдуманный акт. Но почему для сотворения человека вместо простого повеления земле — как было для животных — потребовался этот Совет Трех? Потому что для человека — существа личного — требуется утверждение личного Бога, образом Которого он будет становиться. Веления Бога вызывают к бытию различные части тварного мира. Но человек — не часть, потому что личность содержит в себе всё: как свободная полнота он рождается от «размышления» Бога, как Свободной Полноты.
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Так раскрывается тайна единственного и множественного числа в Боге: как в Боге личное начало требует, чтобы единая природа выражалась в различии Лиц, так и в созданном по образу Божию человеке. Человеческая природа не может быть обладанием монады, она требует не одиночества, а общения. Это — благое различение любви. Затем божественное повеление «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» устанавливает некую связь между полом и господством первой четы над космосом и таинственным преодолением в Боге диады триадой. Но этот райский «эрос», конечно, так же отличался от нашей падшей и пожирающей сексуальности, как царственное священство человека над тварным миром отличалось от господствующего ныне взаимного пожирания. Ибо Бог уточняет: «и всем зверям земным... дал Я всю зелень травную в пищу». Не надо забывать, что повествование о сотворении мира выражено в категориях падшего мира, а грехопадение исказило даже самый смысл слов. Жизнь пола, то размножение, которое Бог повелевает и благословляет, в нашей вселенной неминуемо связана с разлукой и смертью. Ведь состояние человека подверглось катастрофической мутации вплоть до его биологической реальности. Но человеческая любовь не была бы пронизана такой тоской по раю, если бы в ней не оставалось горестного воспоминания о первозданном своем состоянии, когда «другой» и весь мир познавался изнутри, и поэтому не существовало смерти.
153
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» — повторное благословение, которое, однако, уподобляет человека другим земным существам, также появившимся в шестой день.
И вот после этого повествования о сотворении мира первой главы Бытия, во второй главе появляется новое повествование. То, как развертывается акт творения, изложено здесь в совершенно иных терминах. С точки зрения библейской критики это — противопоставление двух разных традиций, двух совершенно отдельных, впоследствии «склеенных» рассказов. В материальном плане написания текста это несомненно так, но для нас само это противопоставление есть дело Духа: Библия рождается не по воле людей, не в зависимости от их обстоятельств, но от Духа Святого, Который сообщает ей глубинную цельность. Невозможно отделить Библию от Церкви или понять ее вне Церкви. И нас интересует, не «как», а «почему» два этих повествования о сотворении мира оказались объединенными, и каков глубокий смысл, сокрытый в этом их сближении.
И вот, если первый рассказ ассимилирует человека с другими земными существами в одном общем благословении и подчеркивает антропокосмическое единство в плане природном, то второй точно определяет место человека. Действительно, здесь дана совершенно иная перспектива: человек предстает перед нами не только как верх творения, но и как самый его принцип. С самого начала мы узнаём, что еще не было растений, потому что не был еще создан человек: «не было человека для возделывания земли». Затем подробно излагается сотворение человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Значит — подчеркивают отцы — человек вылеплен Самим Богом, Его руками, а не вызван одним только Его Словом (что приводит нас к «Совету» первого повествования, ибо Сын и Дух — «две руки Божии», по слову святого Иринея), и дыхание Самого Бога превращает эту глину в «душу живую». Некоторые понимали эту «душу живую» — как духовность человека и, таким образом, усматривали в нашем интеллекте некую божественную эманацию. Но если бы наша душа была нетварной, мы были бы Самим Богом, лишь обремененным земным прахом, а все творение было бы лишь иллюзорной игрой. И все же святой Григорий Богослов справедливо может говорить о присутствии в человеке «частицы божества». Нетварная благодать включена в самый творческий акт, и душа получает жизнь и благодать одновременно, ибо благодать — это дыхание Божие, «божественная струя», животворящее присутствие Духа Святого. Если человек стал живым тогда, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, то это произошло потому, что благодать Духа Святого и есть истинное начало нашего существования. (Что же касается сближения— «дыхание—ноздри», то если дуновение Божие — дыхание человека, то сближение это обосновано конкретной символикой библейской космологии, и это вовсе не метафора, а реальная аналогия, которая еще сегодня находит свое применение в православной аскезе.)
Животный мир в этом втором рассказе появляется после человека и в соотношении с ним для того, чтобы человек не был больше один, но чтобы у него был «помощник соответственный ему». И Адам дает имена животным, которых Бог к нему приводит, потому что мир создан Богом для того, чтобы человек его совершенствовал. И человек изнутри познает живые существа, проникает в их тайну, повелевает их богатством: он — поэт, как бывает поэтом священник, он поэт для Бога, потому что Бог «привел их (животных) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их».
Тогда язык совпадал с самой сущностью вещей, и этот невозвратно утраченный райский язык обретают вновь не изыскатели оккультизма,, а только те «милостивые сердца», о которых говорит Исаак Сирин, те сердца, «которые пламенеют любовью ко всему тварному миру... к птицам, к зверям, ко всей твари». И дикие животные мирно живут около святых, как в то время, когда Адам давал им имена.
154
Итак, в этом втором повествовании о сотворении человека он является ипостасью земного космоса, а земная природа — продолжением его телесности.
Но только существо одной с человеком природы могло быть «помощником подобным ему». Тогда Бог навел на человека экстатический сон, и из самой сокровенной глубины его природы (из близкого к сердцу символического «ребра») сотворил Он женщину и привел ее к мужчине, и мужчина признал Еву себе «единосущной» — костью от его кости и плотью от его плоти. Святые отцы сближают исхождение Святого Духа с тем, что они называют «исхождением» Евы, — иной, чем Адам, однако имеющей одну с ним природу; единство природы и множественность лиц уже говорит нам о тайнах новозаветных.
Так же как Дух не ниже Того, от Которого Он исходит, так и женщина не ниже мужчины, потому что любовь требует равенства, и только любовь и могла возжелать этого первозданного разделения, источника всего многоразличия человеческого рода.
В античной философии жило знание о центральном положении человека, которое она выражала понятием «микрокосм». В частности, в учении стоиков превосходство человека над космосом объясняется тем, что чело* век объемлет космос и придает ему смысл: ибо космос — это большой человек, а человек — малый космос.
Идея микрокосма вновь появляется у отцов Церкви, но у них она решительно перерастает всякий имманентизм. «Нет ничего удивительного в том, — говорит св. Григорий Нисский, — что человек есть образ и подобие вселенной, ибо земля преходит, небеса меняются и всё их содержимое столь же эфемерно, как и содержащее». И вот — перед космической магией заката античности с улыбкой утверждается свобода: «те, кто думали возвысить человеческую природу этим велеречивым наименованием, — добавляет св. Григорий, — не заметили, что одновременно наградили человека качествами, свойственными комарам и мышам». Подлинное величие человека не в его бесспорном родстве со вселенной, а в его причастности божественной полноте, в сокрытой в нем тайне «образа» и «подобия». «Я — земля и потому привязан к земной жизни, — пишет св. Григорий Богослов, — но я также и божественная частица, и потому ношу в сердце желание будущей жизни».
Человек, как и Бог, существо личное, а не слепая природа. В этом характер божественного образа в нем. Связь человека со вселенной оказывается как бы опрокинутой по сравнению с античными понятиями; вместо того, чтобы «де-индивидуализироваться», «космизироваться» и, таким образом, раствориться в некой безличной божественности, абсолютно личностный характер отношений человека к личному Богу должен дать ему возможность «персонализировать» мир. Уже не человек спасается вселенной, а вселенная человеком, потому что человек есть ипостась всего космоса, который причастен его природе. И земля обретает свой личностный, ипостасный смысл в человеке. Человек для вселенной есть ее упование благодати и соединения с Богом; но в нем также — опасность поражения и утраты. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих», пишет св. апостол Павел. И действительно, «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 19—-21). Тварь, по вине человека покорившаяся беспорядку и смерти, от него же, ставшего по благодати сыном Божиим, — ждет своего избавления.
155
Мир следует за человеком, потому что он есть как бы природа человека; его можно было бы назвать «антропосферой». И эта антропокосмическая связь осуществляется тогда, когда осуществляется связь образа’ человека с его Первообразом — Богом; ибо человеческая личность не может, не подвергнувшись распаду, претендовать на обладание своей природой, то есть именно своим качеством микрокосма в мире, но она обретает свою полноту, когда отдает эту свою природу, когда принимает в себя вселенную и приносит ее в дар Богу.
Итак, мы ответственны за мир. Мы — то слово, тот логос, в котором' он высказывается, и только от нас зависит — богохульствует он или молится. Только через нас космос как продолжение нашего тела может воспринять благодать. Ведь не только душа, но и тело человека создано по образу Божию. «Вместе были они сотворены по образу Божию», — пишет св. Григорий Палама.
Поэтому образ не может быть объективирован, так сказать, «нату- рализирован», превращен в атрибут какой-либо одной только части человеческого существа. Быть по образу Божию, утверждают в конечном своем анализе отцы, значит быть существом личным, то есть существом свободным, ответственным. Можно было бы спросить, почему же Бог создал человека свободным и ответственным? Именно потому, что Он хотел призвать его к высочайшему дару — обожению, то есть к тому, чтобы человек в устремлении бесконечном, как бесконечен Сам Бог, становился по благодати тем, что Бог есть по Своей природе. Но этот зов требует свободного ответа, Бог хочет, чтобы порыв этот был порывом любви. Соединение без любви было бы механическим, а любовь предполагает свободу, возможность выбора и отказа. Существует, конечно, и безличная любовь, слепое тяготение желания, рабство природной силе. Но не такова любовь человека или ангела к Богу, — иначе мы были бы животными, привязывающимися к Богу каким-то темным влечением, наподобие сексуального. Чтобы быть тем, чем должен быть любящий Бога, нужно допустить возможность обратного: надо допустить возможность бунта. Только сопротивление свободы придает смысл согласию. Любовь, которой хочет Бог, это не физическое намагничивание, но живая взаимная напряженность противоположностей. Эта свобода — от Бога: свобода есть печать нашей причастности Божеству, совершеннейшее создание Бога, шедевр Творца.
Личное существо способно любить кого-то больше собственной своей природы, больше собственной своей жизни. Таким образом, личность, этот образ Божий в человеке, есть свобода человека по отношению к своей природе. Св. Григорий Нисский учит, что личность есть избавление от законов необходимости, неподвластность господству природы, возможность свободно себя определять. Человек в большинстве случаев действует по естественным импульсам; он обусловлен своим темпераментом, своим характером, своей наследственностью, космической или социально-психической средой, даже собственной своей «историчностью». Но истинность человека пребывает вне всякой обусловленности, а его достоинство — в возможности освободиться от своей природы: не для того, чтобы ее уничтожить или предоставить самой себе, подобно античному или восточному мудрецу, а для того, чтобы преобразить ее в Боге.
Цель свободы, — объясняет св. Григорий Богослов, — в том, чтобы добро действительно принадлежало тому, кто его избирает. Бог не хочет оставаться собственником созданного им добра. Он ждет от человека большего, чем чисто природной слепой причастности. Он хочет, чтобы человек сознательно воспринял свою природу, чтобы он владел ею — как добром — свободно, чтобы он с благодарностью принимал жизнь и вселенную как дары Божественной любви.
Личные существа — это апогей творения, потому что они могут по своему свободному выбору и по благодати стать Богом. Сотворяя личность, Божественное всемогущество осуществляет некое радикальное «вторжение»,
156
нечто абсолютно новое: Бог создает существа, которые, как и Он — вспомним здесь о Божественном Совете книги Бытия — могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Не есть ли это для Бога риск уничтожить Свое создание? Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие. Творя «новое», Бог действительно вызывает к жизни «Другого»: личное существо, способное отказаться от Того, Кто его создал. Вершина божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви — следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраним: в самом своем величии — в способности стать Богом — человек способен к падению; но без этой способности пасть нет и величия. Поэтому, как утверждают отцы, человек должен пройти через испытание, πεῖρα, чтобы обрести сознание своей свободы, сознание той свободной любви, которой ждет от него Бог.
«Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом», — вот строгое слово Василия Великого, на которое ссылается св. Григорий Богослов. Чтобы исполнить это повеление, надо быть в состоянии от него отказаться. Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Он не может ее насиловать, потому что она исходит от Его всемогущества. Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две — в обожении. Одна воля для создания образа, но две — для того, чтобы образ стал подобием. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию. Таков божественный Промысл, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать.
(11) ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Св. Максим Исповедник с несравненной силой и полнотой обрисовал миссию, возложенную на человека. Последовательным «разделениям», из которых состояло творение, соответствуют в его описании «соединения», или синтезы, совершаемые человеком благодаря «синергии» свободы и благодати.
Основное разделение, в котором коренится вся реальность тварного бытия, это противопоставление Бога совокупности тварного мира, разделение на тварное и нетварное.
Затем тварная природа разделяется на небесную и земную, на умозрительное и чувственное. В мире чувственном небо отделяется от земли. На ее поверхности выделен рай. Наконец, обитающий в раю человек разделяется на два пола: мужской и женский.
Адам должен был превзойти эти разделения сознательным деланием, соединить в себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения. Прежде всего, он должен был чистой жизнью, союзом более абсолютным, нежели внешнее соединение полов, преодолеть их разделение в таком целомудрии, которое стало бы целостностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, от всего его отрешающей и в то же время всеобъемлющей, соединить рай с остальным земным космосом: нося рай всегда в себе, он превратил бы в рай всю землю. В-третьих, его дух и само его тело восторжествовали бы над пространством, соединив всю совокупность чувственного мира: землю с небесной ее твердью. На следую-
157
щем этапе он должен был проникнуть в небесный космос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение и соединить в себе мир умозрительный с миром чувственным. И наконец, космический Адам, безвозвратно отдав всего себя Богу, передал бы Ему все Его творение и получил бы от Него во взаимности любви — по благодати — всё, чем Бог обладает по природе; так, в преодолении первичного разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него — всего космоса.
В результате грехопадения человек оказался ниже своего призвания. Но Божественный план не изменился. Миссия Адама выполняется Небесным Адамом — Христом; при этом Он не заступает место человека — беспредельная любовь Божия не может заменить собою согласия человеческой свободы, — но возвращает ему возможность совершить свое дело, снова открывает ему путь к обожению, к тому осуществляемому через человека высочайшему синтезу Бога и тварного мира, который является сущностью всей христианской антропологии. Итак, чтобы после грехопадения человек мог становиться Богом, надо было Богу стать человеком. Надо было Второму Адаму, преодолев все разделения ветхой твари, стать Начальником твари новой. Действительно, Своим рождением от Девы Христос превосходит разделение полов и открывает для искупления «эроса» два пути, которые соединились только в одной человеческой личности — Марии, Деве и Матери: это путь христианского брака и путь монашества. На кресте Христос соединил всю совокупность земного космоса с раем: ибо после того, как Он дал смерти проникнуть в Себя, чтобы истребить ее соприкосновением со Своим Божеством, даже самое мрачное место на земле становится светозарным, нет больше места проклятого. После воскресения сама плоть Христа, преодолев пространственные ограничения, соединяет в себе небо и землю в целостности всего чувственного мира. Своим вознесением Христос соединяет мир небесный и мир земной, ангельские сонмы с человеческим родом. Наконец, воссев одесную Отца, вознеся человеческое естество превыше чинов ангельских, Он вводит его как первый плод космического обожения в Самоё Троицу.
Итак, ту полноту природы, которая была дана Адаму, мы можем вновь обрести только во Христе — Втором Адаме. Но чтобы лучше понять эту природу, мы должны поставить две трудных и притом связанных между собой проблемы — проблему пола и проблему смерти.
То биологическое состояние, в котором мы находимся ныне, было ли для человека таким же до его грехопадения? Связанное с трагической диалектикой любви и смерти, коренится ли оно в райском состоянии? Здесь мысль отцов, именно потому, что она не может вообразить земли райской иначе, чем сквозь призму земли проклятой, подвергалась опасности утратить свою целостную полноту и в результате этого подпасть под влияние мышления нехристианского, которое сделало бы ее пристрастной.
Так возникает дилемма: если в раю существовал какой-то биологический пол, как это следует полагать на основании данного Богом повеления плодиться и размножаться, то не был ли он в этих первозданных условиях как бы ослаблением в человеке образа Божия вследствие наличия животного начала, предполагающего размножение и смерть? Если же райскому состоянию было чуждо всякое животное начало, то грех заключается в самом факте биологической жизни: и здесь мы впадаем в своего рода манихейство.
Безусловно, отцы, отвергнув учение Оригена, отвергли и это второе разрешение дилеммы. Но им стоило большого труда разъяснить первое положение. Исходя из наличия в падшем мире неопровержимой связи между полом и смертью, между началом животным и началом смертным, отцы задают себе вопрос: не явилось ли уже в раю сотворение женщины, вызвавшее то биологическое условие, которое неразрывно связано с конечностью бытия, угрозой для потенциального бессмертия человека? Эта негативная сторона разделения на два пола привносит как бы некую
158
погрешимость, и потому человеческая природа становится с этого момента уязвимой и падение — неизбежным.
Св. Григорий Нисский, которому следует в этом вопросе св. Максим Исповедник, отвергает якобы неизбежную связь между разделением на два пола и грехопадением. Св. Григорий говорит, что Бог создал пол в~ предвидении возможности — но именно только возможности — греха, чтобы сохранить человечество после грехопадения. Половая поляризация давала человеческой природе известную защиту, не налагая на нее никакого принуждения; так дают спасательный круг путешествующему по водам, отчего он вовсе не обязан бросаться за борт. Эта возможность становится актуальной лишь с того момента, когда в результате греха, который сам: по себе не имеет ничего общего с полом, человеческая природа пала и закрылась для благодати. Только в этом падшем состоянии, когда расплатой за грех становится смерть, возможное становится необходимым. Здесь» вступает в силу идущее от Филона толкование «кожных риз», которыми Бог одел человека после грехопадения: «ризы» — это нынешняя наша: природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности. Образуется некий новый космос, который защищается от конечности полом, и так устанавливается закон рождении и смертей. В этом контексте пол есть не причина смертности, но как бы относительное ее противоядие.
Однако мы не можем согласиться с Григорием Нисским, когда онг основываясь на этом «охраняющем» аспекте пола, утверждает, что разделение на «мужеское» и «женское» есть некое «добавление» к образу. Действительно, не только разделение полов, но и все разделения тварного мира приняли после грехопадения характер разлуки и смерти. И человеческая любовь, страстное стремление любящих к абсолютному, в самой фатальности своего поражения никогда не перестает таить щемящую тоскуй по раю, из которой и рождаются героизм и искусство. Райская сексуальность, всецело внутренне единосущностная, с ее чудесным «размножением»,, которое должно было все заполнить, и которое, конечно, не требовало ни множественности, ни смерти, нам почти что совершенно не известна: ибо грех, объективировав тела («они увидели, что наги»), превратил две первые человеческие личности в две раздельные природы, в двух индивидуумов, между которыми существуют внешние отношения. Но новая тварь во- Христе, Втором Адаме, приоткрывает перед нами глубинный смысл того разделения, в котором несомненно не было ничего «добавленного»: Марио- логия, любовь Христа и Церкви и таинство брака проливают свет на полноту, возникающую с сотворением женщины. Но полноту эту мы видим: лишь отчасти, разве только в единственной личности Пресвятой Девы, потому что мы продолжаем пребывать в падшем состоянии, и для исполнения нашего человеческого призвания от нас требуется не только восставляющее человека целомудрие брака, но также — а может быть и прежде всего — возвышающее его целомудрие монашества.
* * *
Можно ли сказать, что Адам в своем райском состоянии был истинна бессмертен? «Бог не создавал смерти», говорит книга Премудрости. В древнем богословии, например, в понимании св. Иринея, Адам не был ни необходимо смертным, ни необходимо бессмертным; его восприимчивая, богатая возможностями природа могла непрестанно питаться благодатью и настолько преображаться ею, чтобы оказаться в состоянии преодолеть все опасности старости и смерти. Возможности смертности существовали, но существовали для того, чтобы человек мог сделать их невозможными. Таково было испытание свободы Адама.
Итак, древо жизни, растущее посреди рая, и его плоды бессмертия давали некую возможность: такова в нашей христианской церковной действительности Евхаристия, которая духовно и телесно нас врачует, питает
159
и укрепляет. Надо питаться Богом, чтобы в свободе достигнуть обожения. И именно этого личного усилия не сумел совершить Адам.
В чем же смысл Божественного запрета? Он ставит двоякую проблему: проблему познания добра и зла и проблему запрета как такового.
Ни знание вообще, ни познание добра и зла в частности сами по себе не являются злом. Но само это различение предполагает более низкий экзистенциальный уровень, состояние грехопадения. В нашем состоянии греховности нам, конечно, необходимо распознавать добро и зло, чтобы творить первое и избегать второго. Но Адаму в раю знание это не было полезно. Само существование зла предполагает сознательное удаление от Бога, отказ от Бога. Пока Адам пребывал в единении с Богом и исполнял Его волю, пока питался Его присутствием, такое различение было неполезным.
Вот почему Божественный запрет относится не столько к познанию добра и зла (поскольку зла не существовало, или оно существовало только как риск — риск нарушения запрета Адамом), сколько к добровольному испытанию, предназначенному для того, чтобы сделать свободу первого человека сознательной. Адам должен был выйти из детской бессознательности, согласившись по любви на послушание Богу. Запрет не был произволом: ибо любовь к Богу, если бы человек свободно на нее согласился, должна была объять его всего и через него сделать всю вселенную проницаемой для действия благодати. Мог ли бы тогда человек пожелать чего-то иного, выделить из этой прозрачной вселенной один какой-то аспект, один какой-то плод, чтобы прилепиться к нему в эгоцентрическом вожделении и тем самым сделать ее непроницаемой и одновременно самому стать непроницаемым для Божественного всеприсутствия? «Не вкушай...», «не прикасайся...» — в этом заключается возможность действительно сознательной любви, любви постоянно возрастающей, которая отрешила бы человека от самоличного наслаждения не одним древом, но всеми деревьями, не одним плодом, но всем вещественно-чувственным миром, чтобы воспламенить его, и с ним всю вселенную, одной только радостью о Боге.
Проблема зла — проблема по существу своему христианская. Для атеиста зрячего зло — только один из аспектов абсурда, для атеиста слепого оно есть временный результат еще несовершенной организации общества и мира. В монистической метафизике зло является неотъемлемым определением тварного, как разлученного с Богом; но тогда оно не что иное, как иллюзия. В метафизике дуалистической оно есть «другое», та злая материя или злое начало, которые, однако, совечны Богу. Таким образом проблема собственно зла сама по себе проистекает из христианского учения. Действительно, как объяснить наличие его в мире, сотворенном Богом, в том вйдении, в котором сотворенное по существу своему есть добро? И даже учитывая дарованную человеку свободу противиться Божественному плану, мы не можем не задавать себе вопрос: что такое зло?
Однако вопрос этот ставится неправильно, так как им предполагается, что зло есть «нечто». При такой постановке мы склонны принимать зло за некую сущность, за некое «злое начало», за манихейского «анти-Бога». Тогда вселенная представляется какой-то «ничейной зоной» («no man's land») между Богом добрым и богом злым, а все ее богатство и многообразие — лишь игрой света и тени, вызванной борьбой этих двух начал.
Такое представление находит известное основание в аскетическом опыте; дуалистические элементы постоянно пытались проникнуть в христианство, и особенно в монашескую жизнь. Но для православного мышления
160
такое представление является ложным: у Бога нет контрпартии; нельзя предполагать существование каких-то природ, которые были бы Ему чужды. С конца III в. вплоть до блаженного Августина отцы ревностно боролись против манихейства, но в этой борьбе они пользовались философскими категориями, самая постановка которых несколько уводила их в сторону от самой проблемы. Для отцов зло действительно есть не-достаток, порок, не-совершенство; не какая-то природа, а то, чего природе недостает, чтобы быть совершенной. В аспекте сущностном отцы считают, что зла не существует, что оно есть только лишение бытия. Этот ответ был достаточным для опровержения манихеев, но он бессилен перед реальностью зла, всеми нами ощутимой, перед злом, присутствующим и действующим в мире. И если последнее прошение Молитвы Господней в аспекте философском можно истолковать как «избави нас от зла», то воплем конкретной нашей тревоги, конечно, остается «избави нас от злого», — от «лукавого».
Проблема зла, как удивительно точно отметил о. Буайе (Bouyer), сводится в подлинно христианской перспективе к проблеме «лукавого». А «лукавый» — это не отсутствие бытия, не сущностная недостаточность; он также и не есть как лукавый—сущность; ведь его природа, сотворенная Богом, добра. «Лукавый» — это личность, это «некто».
Зло, конечно, не имеет места среди сущностей, но оно не только «недостаточность», в нем есть активность. Зло не есть природа, но состояние природы, и в этом высказывании отцов заключается большая глубина. Таким образом, оно есть как бы болезнь, как бы паразит, существующий только за счет той природы, на которой паразитирует. Точнее, зло есть определенное состояние воли этой природы, это воля ложная по отношению к Богу. Зло есть бунт против Бога, то есть позиция личностная. Таким образом, зло относится к перспективе не сущностной, а личностной. «Мир во зле лежит», говорит Иоанн Богослов, зло — это состояние, в котором пребывает природа личных существ, отвернувшихся от Бога.
Итак, начало зла коренится в свободе твари. Вот почему оно непростительно: зло рождается только от свободы существа, которое его творит. «Зло — не есть; или, вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его совершают», — пишет Диадох Фотикийский, а Григорий Нисский подчеркивает парадоксальность того, кто подчиняется злу: он существует в несуществующем.
Итак, человек дал место злу в своей воле и ввел его в мир. Правда, человек, по природе расположенный к познанию Бога и любви к Нему, выбрал зло потому, что оно было ему подсказано: в этом — вся роль змия. Зло в человеке, а через человека и в земном космосе, представляется, таким образом, связанным с заражением, в котором нет, однако, ничего автоматического: оно могло распространиться только с свободного согласия человеческой воли. Человек согласился на это господство над собой.
Однако зло имеет свое начало в ангельских мирах, и на этом стоит остановиться.
Ангелов нельзя определять термином «бесплотные духи», даже если их так называют отцы и богослужебные тексты. Они не являются существами «чисто духовными». Существует некая ангельская телесность, которая может даже становиться видимой. Хотя идея бестелесности ангелов в конце концов восторжествовала на Западе вместе с томизмом, средневековые францисканцы, в частности Бонавентура, держались противоположного мнения; а в России XIX века епископ Игнатий Брянчанинов отстаивал эту телесность ангелов против Феофана Затворника. Но как бы то ни было, ангелы не имеют биологических условий, подобных нашим, и они не знают ни смерти, ни размножения. У них нет «кожных риз».
Поэтому единство ангельского мира совершенно отлично от нашего единства. Можно говорить о «роде человеческом», т. е. о бесчисленных личностях, обладающих одной и той же природой. Но у ангелов, которые тоже существа личностные, нет единства природы. Каждый из них — от
161
дельная природа, отдельный умопостигаемый мир. Следовательно, их единство не органическое и его можно было бы назвать по аналогии — единством абстрактным; это единство города, хора, войска, единство служения, единство хвалы, одним словом — единство гармоническое. Так можно было бы установить удивительное сближение между музыкой и математикой с одной стороны, и ангельскими мирами— с другой.
Поэтому ангельская вселенная открывает перед злом иные возможности, чем наш мир. Зло, воспринятое Адамом, смогло осквернить всю человеческую природу. Но злобная позиция одного ангела остается его личной позицией: здесь зло — в каком-то смысле — индивидуализируется. Если заражение и происходит, то через пример, через влияние, которое одна личность может оказывать на другие личности. Так Люцифер увлек за собой других ангелов, но пали не все: змий ниспроверг треть светил, символически говорит Апокалипсис.
Таким образом, зло имеет своим началом грех одного ангела. И эта позиция Люцифера обнажает перед нами корень всякого греха — гордость, которая есть бунт против Бога. Тот, кто первым был призван к обожению по благодати, захотел быть богом сам по себе. Корень греха — это жажда самообожения, ненависть к благодати. Оставаясь зависимым от Бога в самом своем бытии, ибо бытие его создано Богом, мятежный дух начинает ненавидеть бытие, им овладевает неистовая страсть к уничтожению, жажда какого-то немыслимого небытия. Но открытым для него остается только мир земной, и потому он силится разрушить в нем божественный план, и, за невозможностью уничтожить творение, хотя бы исказить его. Драма, начавшаяся в небесах, продолжается на земле, потому что ангелы, оставшиеся верными, неприступно закрывают небеса перед ангелами падшими.
Змий книги Бытия, как и «древний змий» Апокалипсиса, — это сатана. Он присутствует в земном раю именно потому, что человек должен пройти через πεῖρα, через искус свободы. Первое повеление Божие — не прикасаться к древу — постулирует человеческую свободу, и в этом же плане Бог допускает присутствие змия. Вера дает жизнь греху, она его являет, как подчеркивает апостол Павел: Бог дает это первое повеление, и тут же сатана вкрадчиво подсказывает бунт; действительно, плод сам по себе был хорошим, но всё дело здесь — в личных отношениях между Богом и человеком. И когда Ева видит, что дерево прекрасно, появляется некая ценность вне Бога. «Вы будете как боги», — говорит змий. Он не до конца обманывает человека, потому что человек действительно призван к обожению. Но здесь это «как» обозначает равенство мстительной злобы, злопамятство того, кто хочет противостоять Богу: бога самостийного, противопоставившего себя Богу, бога земного космоса, отпавшего от Бога.
Плод съеден, и грех развивается несколькими этапами. Когда Бог зовет Адама, Адам, вместо того, чтобы с воплем ужаса броситься к своему Создателю, обвиняет жену, «которую, — подчеркивает он, — Ты мне дал». Так человек отказывается от своей ответственности, перекладывает ее на жену и, в конечном счете, на самого Бога. Адам здесь — первый детерминист. Человек не свободен, намекает он; само сотворение, а, следовательно, Бог, — привело его ко злу.
С этого момента человек находится во власти лукавого. Оторвавшись от Бога, его природа становится неестественной, противоестественной. Внезапно опрокинутый ум человека вместо того, чтобы отражать вечность, отображает в себе бесформенную материю: первозданная иерархия в человеке, ранее открытом для благодати и изливавшем ее в мир, — перевернута. Дух должен был жить Богом, душа — духом, тело — душой. Но дух начинает паразитировать на душе, питаясь ценностями не божественными, подобными той автономной доброте и красоте, которые змий открыл женщине, когда привлек ее внимание к древу. Душа, в свою очередь, становится паразитом тела — поднимаются страсти. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть.
162
Но Бог:— и в этом вся тайна «кожных риз» — вносит, во избежание полного распада под действием зла, некий порядок в самую гущу беспорядка. Его благая воля устрояет и охраняет вселенную. Его наказание воспитывает: для человека лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем закрепление в вечности его чудовищного положения. Сама его смертность пробудит в нем раскаяние, то есть возможность новой любви. Но сохраняемая таким образом вселенная всё же не является истинным миром: порядок, в котором есть место для смерти, остается порядком катастрофическим: «земля проклята за человека», и сама красота космоса становится двусмысленной.
Истинная вселенная, истинная природа утверждаются только благодатью. Вот почему грех открывает драму искупления. Второй Адам предпочтет Бога именно там, где первый Адам предпочел самого себя: сатана приступит ко Христу после Его Крещения и предложит Ему то же искушение, но искушение трижды разобьется о соединенные в Нем волю Божественную и волю человеческую.
В раю согласие человеческой свободы и Божественной благодати могло стать светозарным мостом над тем «бесконечным расстоянием», которое, как говорит Иоанн Дамаскин, отделяет тварь от Творца. Адам был непосредственно призван к обожению. Но после грехопадения встают два препятствия, делающие это расстояние непреодолимым: грех сам по себе, который лишает природу человека способности воспринимать благодать, и смерть — завершение падения, ввергающая человечество в состояние противоестественное, когда своеволие человека, заразив весь космос, сообщает не-бытию парадоксальную и трагическую реальность.
В этом состоянии человек не может больше оставаться на уровне своего призвания. Но Божественный план не изменился: Бог по-прежнему хочет, чтобы человек с Ним соединился и преобразил всю землю.
Конечная и всецело положительная цель человека приобретает с этого момента негативный аспект — аспект спасения. Чтобы человек мог свободно вернуться к Богу, нужно, чтобы Бог сначала освободил его от состояния повинности греху и смерти. Это состояние требует искупления, которое в целокупности Божественного плана предстает, таким образом, перед нами не как цель, а как негативное средство. Ведь спасен может быть только тот, кто является беспомощной добычей зла.
История человечества после грехопадения — это история длительного кораблекрушения с ожиданием спасения. Но гавань спасения — еще не цель: потерпевшему крушение она дает возможность снова отправиться в путь к единственной — всё той же — цели: единению с Богом.
Итак, после утраты райского состояния человек уже объективно не может достигнуть своей конечной цели. В новом состоянии небытия и смерти он находится в положении мучительной пассивности; сначала это ничем це истребимая, щемящая тоска по раю, а затем — всё более сознательное ожидание спасения. Движение падения продолжается, отчего, во-первых, ожидание становится всё более горестным, а, во-вторых, рождаются или бесчисленные способы забыть (попытаться забыть) о смерти, то есть о разлуке с Богом, или люциферианское устремление воли к тому, чтобы спасти себя самостоятельно и самообожиться. Но и «ангелизм» и «вавилонизм» терпят поражение, и люди не перестают ждать Кого-то, Кто пришел бы их спасти. Итак, вся история человечества — это история спасения, в которой мы можем различить три периода.
Первый период — длительное предуготовление к пришествию Спасителя; он продолжается от грехопадения до Благовещения: «Днесь спасения
163
нашего главизна», — поет в этот праздник Церковь. В течение всего этого периода Провидение непрестанно учитывает волю людей и в соответствие с этим избирает Себе орудия.
Второй период, от Благовещения до Пятидесятницы, соответствует земной жизни и Вознесению Христа. Здесь человек не может ничего: Один Христос Своей жизнью, Воскресением и Вознесением совершает дело спасения. В Его Личности соединяются человечество и Божество, вечность вступает во время, время проникает в вечность, обоженная антропокосмическая природа вводится в жизнь Божественную, в само лоно Пресвятой Троицы.
И вот с Пятидесятницей начинается новый период, когда человеческие личности, содействием Духа Святого, должны свободно стяжать то обоже- ние, которое их природа раз и навсегда обрела во Христе. В Церкви свобода и благодать сотрудничают. По уважению к свободе человека Бог допускает, чтобы продолжалось время греха и смерти: Он не хочет насильственно навязывать Себя человеку, а хочет от него ответа веры и любви. Наше положение, однако, несравненно превосходит райское состояние: мы действительно больше не подвержены риску утратить благодать, мы всегда можем участвовать в Богочеловеческой полноте Церкви. Сами условиям нашей немощи, которые целиком принял на Себя Христос, покаянием и верой раскрываются навстречу тайне любви. Итак, история Церкви — это свободное осознание людьми единства, совершенного во Христе и всегда присутствующего в Церкви, где уже даровано вечное сияние Царства. Так мы соработаем полному уничтожению смерти и преображению космоса, иначе говоря — второму пришествию Господа.
* * *
Период предуготовления — это период обетования: медленное продвижение ко Христу, в течение которого Божественная «педагогика» хочет сделать возможным исполнение обетования, данного в самый момент наказания.
Ветхий Завет не знал внутреннего благодатного освящения, и всё же сн знал святость, потому что благодать, действуя извне, вызывала ее в душе как некий плод этого воздействия. Человек, по вере пребывающий в послушании Богу и живущий праведно, мог стать орудием Его воли. Как свидетельствует призвание пророков, это не было согласием двух воль, но властным использованием волей Божественной воли человеческой: Дух Божий обрушивался на умевшего видеть, Бог извне овладевал человеком, налагая Свои требования на его личность. Бог Невидимый — говорил, слуга Его — слушал. Синайский мрак противополагался Фаворскому свету, как тайна сокрытая — тайне раскрытой. Человек послушанием и чистотой готовился во мраке веры к служению. Послушание и чистота — понятия негативные: они предполагают проявление Бога извне и подчинение человека, становящегося Его орудием, человека, который, даже будучи праведным, не может освободиться от своего состояния греховности и смертности. Святость как активное освящение всего существа и свободное уподобление природы человеческой природе Божией сможет проявиться только после подвига Христа — в сознании этого подвига. Поэтому главное в Ветхом Завете — закон; отношения между Богом и человеком здесь — не единство, а союз, порукой которому является верность закону.
История Ветхого Завета — это история избраний, связанных с последующими падениями. На протяжении этой истории Бог спасает некий «остаток», ожидание которого достигает всё большей чистоты: в самой диалектике разочарований ожидание Мессии победоносного превращается в ожидание страждущего слуги Иеговы, ожидание политического освобождения одного народа — в ожидание духовного освобождения всего человечества. Чем более удаляется Бог, тем углубленнее становится молитва человека; чем ограниченнее избранничество, тем обширнее цель — вплоть
164
до всепревосходящей чистоты Девы, способной родить Спасителя всего человечества.
Первым падением после утраты рая было убийство Авеля Каином:. Бог говорил Каину: «Не лежит ли грех у дверей твоих? Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7). Но Каин убил своего брата. Этому первому падению соответствует и первое избрание: избрание Сифа и его потомства. Сыновья Сифа — это «сыны Божии», они призывают имя Иеговы и один из них, Енох, «ходил перед Богом» и был, может быть, с телом взят Богом в рай. Потомки же Каина, напротив — только сыновья человеческие, трагически обреченные на смерть («Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне», — говорит Ламех). Проклятые возделанной землей, впитавшей в себя кровь Авеля, они становятся первыми горожанами, изобретателями техники и искусства. С ними появляется и цивилизация — эта огромная попытка восполнить отсутствие Бога. Люди стараются забыть Бога или заменить Его: забыть в ковке металлов, отдав себя в плен земной тяжести и сообщаемому ею непроницаемому могуществу, подобно Тувалкаину, «отцу всех ковачей орудий из меди и железа» (Быт. 4, 22), или же заменить Его праздником искусства, томительным утешением музыки, подобно Иувалу, «отцу всех играющих на гуслях и свирели». Искусство появляется здесь как ценность культурная, а не культовая; это—молитва, не доходящая никуда, потому что она не обращена к Богу. Порождаемая искусством красота замыкается сама в себе и своей магией приковывает к себе человека. Эти изобретения человеческого духа полагают начало культуре, как культу некоей абстракции, в которой нет Того Присутствующего, к Которому должен быть обращен всякий культ...
Приходит потоп, и кажется, что Бог возвращает первобытным водам свое искаженное падением творение. Может быть, это новое падение следует связывать с таинственным общением между ангелами и людьми (Быт. 6, 1 —4), в результате чего появляются «исполины». Не было ли это какой-то люциферианской гнозой, из которой человек черпал необычную для себя власть? Но как бы то ни было, некий «остаток» — один человек и его близкие — обрели милость в очах Божиих, потому что «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил перед Богом» (Быт. 6, 9). Ной спасет человечество и всё земное творение, не возродив их, как Христос — он только Его прообраз, — но обеспечив продолжение их существования. После потопа Бог заключает с человечеством космический союз, который стабилизирует земную вселенную; знамением этого завета становится радуга, таинственный, светозарный мост, соединяющий небо и землю.
Новое падение совершается с построением Вавилонской башни. Вавилонская башня — это узурпаторский порыв безбожной цивилизации, единство только человеческое в своем чисто земном вожделении завоевывать небо. Так восточные сакральные цивилизации воздвигали свои зиккураты, эти храмы, этажи которых символизировали, по-видимому, те внутренние ступени, по которым должен был методически восходить посвященный. Вавилонская башня типична для этих архаических примеров, но и превосходит их; она актуальна и по сей день.
Единство без Бога влечет за собой справедливую кару: рассеяние вдали от Бога. Тогда рождается разноязычие, хаос «наций». Но Бог использует даже само зло, отвечая на падение избранием. Из этих народов, формирующихся среди разделений и смещений, Он избирает Своим орудием один народ, народ еврейский, получивший свое имя от Евера, одного из потомков Сима. Это избрание достигает своей кульминационной точки в союзе с Авраамом, избрании на этот раз историческом, в котором возвещается слава потомства более многочисленного, чем звезды небесные. Но Авраам должен быть испытан в самом своем уповании для того, чтобы оно могло совершенно исполниться. Повеленная ему жертва — наследник
165
обетования Исаак — требует веры вне всякой логики, послушания безусловного. Во время восхождения на гору Мориа Авраам отвечает на вопрос Исаака: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой». И когда в последний момент Бог действительно заменяет человеческую жертву овном, мы понимаем, что каждый раз, когда человек бывает послушлив, Бог приуготовляет божественного Агнца — Христа. Может ли Он не дать Собственного Своего Сына, когда человек отдает своего? Итак, история Ветхого Завета — это не только история прообразов спасения, но и история отказов и согласий человека. Спасение приближается или отдаляется в зависимости от того, готов или не готов человек его принять. Καιρός Христа, Его «время» зависит, таким образом, от человеческой воли. Весь смысл Ветхого Завета заключается в этих колебаниях, которые подчеркивают двойной аспект Провидения. Провидение не односторонне, Оно считается с ожиданием и зовом человека. Божественная педагогика подвергает человека проверке, испытывает его намерения.
Это испытание есть иногда и борьба, ибо Бог хочет, чтобы свобода человека не только могла Ему сопротивляться, но и принуждала Его если не открывать Свое Имя, то по крайней мере благословлять: так Иаков становится Израилем, «ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт. 32, 28).
И патриарх становится народом, а когда этот народ оказывается в плену у Египта, Бог воздвигает Моисея для его освобождения. На Синайской горе Бог проходит в славе Своей перед Моисеем, но не дает ему увидеть Своего Лица, «потому что человек не может видеть Меня и не умереть»; божественная природа остается сокрытой. Но избрание Израиля — и это решающий этап — утверждается новым союзом: законом. Закон-обязательства, запечатленные в письменной форме, которым должен подчиняться избранный народ — сопровождается божественными обетованиями, которые непрестанно уточняются пророками. Так закон и пророки дополняют друг друга, и Христос всегда упоминает их одновременно, когда подчеркивает их свершение. Пророки — это люди, избран- ные Богом, чтобы возвещать глубинный смысл закона. Фарисеям, которые постепенно превращали закон в какую-то статическую реальность и средство оправдания, пророки изъясняли его дух, его исторический динамизм и содержащийся в нем эсхатологический призыв, заставляя человека осознать свой грех и свое бессилие перед ним.
Таким образом, значение пророков для избранного народа аналогично значению Предания для Церкви: и действительно, и пророки и Предание раскрывают нам подлинный смысл Священного Писания. Эта двоица — закон и пророки — уже выражает некоторым образом завершающее действие Логоса и животворящее действие Духа. В Ветхом Завете дух пророчества явно приоткрывает перед нами действие Третьего Лица Пресвятой Троицы.
Круг избраний медленно сужается: в Израиле — колено Иудино, в колене Иудином — дом Давида. Так растет древо Иессеево до последнего и высочайшего избрания Пречистой Девы.
Это избрание было возвещено Марии архангелом Гавриилом. Но Мария могла свободно согласиться или отказаться. Вся (история мира, всё свершение Божественного смотрения зависело от этого свободного ответа человека. Смиренное согласие Девы позволило Слову стать плотью.
«Се раба Господня, да будет мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Всё, чего ждал Бог от падшего человечества, осуществилось в Марии: личная свобода раскрыла, наконец, свою человеческую природу, свою плоть для необходимого дела спасения. Второе Лицо Пресвятой Троицы смогло вступить в историю не мощно в нее вторгаясь, ибо тогда человек остался бы лишь орудием, не выделяя Девы, ибо тогда Она была бы разлучена с потомками Адама, но через то согласие, которым многовековая божественная педагогика была, наконец, вознаграждена. Именно потому, что
166
Бог со всей решимостью, со всем присущим Его любви уважением взял ка Себя дело человеческого спасения, Пречистая Дева, в Которой «совершилась» вся ветхозаветная святость, смогла предложить этой любви чистое вместилище Своей плоти. Ее предки, благословенные Богом и очищенные законом, принимали слово Слова в Духе. Она же смогла вместить само Слово телесно. Родив божественное Лицо, Которое восприняло Ее человечество, Она поистине стала Матерью Божией· И потому св. Иоанн Дамаскин мог сказать: «Наименование Богородица (Θεοτόκος) содержит всю историю божественного домостроительства в мире». Но ветхозаветная святость не только дала Слову Его Матерь, и, можно было бы сказать,— Невесту; святость эта пророчески указала на Него Израилю: Мария — это воплощающее молчание; Иоанн Креститель, пришедший в духе Илии, — глас, вопиющий в пустыне, последний пророк, узнавший и перстом указавший «Агнца, вземлющего грехи мира». Ветхий Завет достигает своего завершения в этих двух человеческих существах, которых почитает иконография, помещая по обе стороны Христа Прославленного: Невесту и Друга Жениха.
ВОПЛОЩЕНИЕ
В Прологе Евангелия от Иоанна, который относится одновременно к Христу и к Троице, звучит в 14 стихе великая истина христианства — уверенность в том, чего тщетно искал молодой Августин в метафизике Платона: «Слово плоть бысть».
Всё, что мы знаем о Пресвятой Троице, мы узнали через Воплощение, подчеркивает св. Иоанн Богослов. Откровение завершается, когда одно из Божественных Лиц, Сын Божий, становится сыном человеческим и «обитает с нами». Несомненно, нехристианская мысль часто предугадывала таинственное значение числа три, но эти предчувствия она окутывала сумраком двусмысленных символов. Для полного откровения о Троице было необходимо Воплощение. С Ветхого Завета как бы снялось покрывало, и он открыл свою тринитарную сущность; Господин вселенной являет Себя как Отец; человек, созерцающий «славу Единородного от Отца», видит откровение Божественной природы, и богословие становится возможным как созерцание Самого Бога, ибо ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο — «Слово стало плотию». Тогда собственно начинается домостроительство Сына, Который вступает в историю мира. Действительно, «плоть» — это последний предел вочеловечения: не только душа, но и тело «восприняты Христом». Слово «плоть» обозначает здесь именно всю человеческую природу в ее целом. И «соделывание» Слова «плотью» входит в полноту Божественного бытия, — к великому соблазну метафизиков. Сын остается Богом в лоне неизменной Троицы, но что-то добавляется к Его Божеству: Он становится человеком. Непостижимый для ума парадокс: без изменения Своей Божественной природы, которую ничто не может ума лить, Слово полностью принимает на Себя наше состояние, вплоть до принятия самой смерти. Эту тайну, это все превосходящее проявление любви можно воспринимать только в терминах личной жизни: Личность Сына преодолевает границы между трансцендентным и имманентным и вступает в человеческую историю. Становление это не вмещается в категории Божественной природы, неизменной и вечной, но не отождествляющейся с Ипостасями; именно благодаря этому Христос становится человеком, так что другие Лица Пресвятой Троицы не страдают и не распив наются, и именно потому следует говорить о собственном домостроительстве Сына. Несомненно, Божественное домостроительство принадлежит Божественной воле, воля же Пресвятой Троицы едина; несомненно также, что спасение мира есть единая воля Трех, «и тот, кто посвящен в тайну Воскресения, познал цель, ради которой Бог сотворил всё вначале»
167
(св. Максим Исповедник). Но эта общая воля осуществляется каждым Лицом различно: Отец посылает, Сын проявляет послушание, Дух сопровождает и содействует, благодаря Ему Сын входит в мир. Воля Сына есть воля Пресвятой Троицы, но эта Его воля есть воля послушания. Спасает нас Троица, но для исполнения в мире дела спасения воплощается Сын. По учению патрипассиан Отец страдал, Отец был распят вместе с Сыном, как с Ним Единосущный. Но утверждать это значило бы не различать в Боге природу и лицо. Мы ведь понимаем, что если наши различения и позволяют нам избежать ереси, то они всё же не могут сделать большего, чем лишь наметить очертания тайны; они представляют собой путь, строго проложенный верой и молитвой, без которых они были бы пустыми словами. И здесь тайна есть тайна послушания: в Боге — всё единство. Но во Христе была воля не только Божественная, но и воля человеческая, и поскольку между Сыном и Отцом произошло как бы некое разлучение, согласие этих двух воль во Христе запечатлевает послушание Сына Отцу, и тайна этого послушания и есть тайна нашего спасения.
Сын воплощается для того, чтобы восстановить возможность соединения человека с Богом, соединения не только расторгнутого злом, но без участия самого человека и не восстановимого. Первое препятствие к этому соединению — разлучение двух природ, человеческой и Божественной — устранено самим фактом Воплощения. Остаются два других препятствия, связанных с падшим состоянием человека: грех и смерть. Дело Христа их победить, изгнать из земного космоса их неизбежность: не безоговорочно их уничтожить — это было бы насилием над породившей их свободой, — но подчинением Самого Бога смерти и аду обезвредить смерть и создать возможность уврачевания греха. Так смерть Христова устраняет преграду, воздвигнутую грехом между человеком и Богом, а Его Воскресение вырывает у смерти ее «жало». Бог нисходит в меонические бездны, разверстые в творении грехом Адама, чтобы человек смог восходить к Божеству. «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом», — трижды находим мы у св. Иринея. Это же изречение мы вновь видим у св. Афанасия Великого, и, в конце концов, оно становится общим для богословов всех эпох. Апостол Петр первый написал, что «мы должны со делаться причастниками Божественного естества». Глубокий смысл Воплощения таится в этом физическом и метафизическом видении благодатно преобразованной природы, в этом отныне достигнутом восстановлении природы человеческой, в этом прорвавшем смертную тьму просвете, который ведет к обожению.
«Первый человек Адам стал душою живущею, а последний Адам есть дух животворящий... Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15, 45,47—49).
Итак, Христос есть пришедший с неба Новый Адам, Человек второй и последний. Не являет ли этот «Небесный Человек» на нашей земле какую-то иную небесную и высшую человечность, как считали некоторые гностики? Но в чем же тогда состояло бы Воплощение? Ведь Христос прошел бы через Свою Матерь, ничего от Нее не восприняв. Тайна же Воплощения — это тайна Богочеловека, истинно соединившего в Себе обе природы и воспринявшего от Пречистой Девы Ее человеческое естество. Чудо смирения: Слово «принимает» от собственного Своего творения, Бог в решающий момент Благовещения испрашивает у Марии начатой Своего человечества, собственную Свою человеческую природу.
* * *
Воплощение совершается действием Святого Духа. Значит ли это, как предполагали некоторые богословы, что Дух есть Жених Девы, что
168
в девственном зачатии Он соответствует роли супруга? Такое понимание было бы грубой рационализацией рождения Христа. Ибо если и можно говорить о Женихе Пресвятой Девы, причем только в смысле метафизическом, постольку, поскольку Она представляет Церковь, то у Нее не может быть иного Жениха, кроме Сына. В этом бессемейном зачатии Само Слово есть Семя. Дух же отнюдь не является Женихом Марии, Он завершает очищение Ее утробы, соделывая ее совершенно девственной, и таким образом сообщает Деве Марии самим совершенством чистоты силу к восприятию и рождению Слова. Всесовершеннейшее девство, даруемое Духом, как чистота всего существа, совпадает с Богоматеринством.
* * *
Итак, во Христе нет личности человеческой: есть человек, но личность Его — Лицо божественное. Христос — человек, но личность Его— с неба. Отсюда выражение апостола Павла «Небесный Человек».
Можем ли мы говорить о соединении двух природ, об их «сотрудничестве», как говорили отцы? Сами отцы постоянно себя уточняют, побуждая и нас очищать свой язык. Человечество Христа никогда не было некоей отдельной и предшествующей Ему природой, которая присоединилась бы к Божеству. Она никогда не существовала вне личности Христа, Он Сам создал ее в Своей ипостаси — не «из ничего», поскольку надо было восстановить всю историю, всё состояние человека, но из Девы, предочищенной Духом Святым. Нетварное Лицо Само творит Свою человеческую природу, и она с самого начала есть «человечество» Слова. Строго говоря, это не соединение, и даже не восприятие, но — единство двух природ в Личности Слова с самого момента Его Воплощения. «Неограниченный неизреченно Себя ограничивает, а ограниченный распространяется до меры Неограниченного», — пишет св. Максим Исповедник. Бог «плотски» входит в плоть истории. История — это риск; Бог идет на риск. Он, Полнота, снисходит до последних пределов бытия, подточенного греховной неполнотой, чтобы вернуть свободным существам возможность спасения, не нарушая их свободы.
(15) ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ДОГМАТ
Троица присутствует в самой интеллектуальной структуре христологического догмата, то есть в различении Лица и природы. Троица — одна природа в трех Лицах, Христос — одно Лицо в двух природах Хотя божество и человечество разделены бесконечным расстоянием, лежащим между тварным и нетварным, они воссоединены в единстве одной Личности.
Между триадологией и христологией есть связующее начало — единосущие, ибо термин «единосущный», ὁμοούσιος, предназначавшийся первоначально для определения внутри-Троичного единства Отца и Сына, вновь появляется в христологическом догмате, окончательно сформулированном Халкидонским Собором. Христос, с одной стороны, единосущен Отцу по Своему Божеству, с другой — единосущен нам по Своему человечеству. Итак — два единосущия, но один Единосущный, одно Лицо — истинный Бог и в то же время истинный человек. Ипостась объемлет обе природы: она остается одной из них, становясь и другой, причем ни божество не превращается в человечество, ни человечество в божество.
Халкидонский догмат, точно выразивший эту тайну двух в одном, явился завершением длительной борьбы против попыток рационалистически объяснить Воплощение путем умаления то Божественной, то чело-
169
веческой природы Христа. За этими попытками вырисовываются две противоположные великие богословские школы древнего христианства: Александрийская и Антиохийская. Антиохийская школа — это школа буквализма в экзегезе, обращавшая главное внимание на исторический аспект Священного Писания. Всякая символическая интерпретация, всякий гносис священного события казались ей подозрительными, и потому она часто теряла из виду присутствие вечности в истории. Так возникала опасность увидеть в Иисусе лишь одного из индивидуумов в истории Иудеи, истории слишком человеческой в ее временных рамках. В Антиохийской школе история замыкалась в себе настолько, что порой даже проходила мимо грандиозного видения Бога, ставшего человеком. Напротив, Александрийская школа, сосредоточенная на христианском гносисе, в своей крайней аллегорической экзегезе часто лишала библейское событие его конкретной простоты, проявляя тенденцию игнорировать исторический, человеческий аспект Воплощения. Эти школы дали великих богословов, но породили также и великих еретиков, когда каждая из них поддавалась характерному для нее искушению.
Несторианство, возникшее из антиохийского образа мышления, рассекало Христа на два различных лица. Каждому единосущию здесь соответствовал свой единосущный и, таким образом, появилось два единосущных — Сын Божий и Сын человеческий, личностно раздельные. Правда, богословская терминология в это время не была еще окончательно установившейся, различение между лицом и природой оставалось туманным, и мысль Нестория долгое время могла вводить в заблуждение. Этот константинопольский патриарх принадлежал к Антиохийской школе, где его учителями были великие богословы, в том числе и такие, которые —· как Феодор Мопсуестийский — явно клонились к ереси. (Феодор был осужден посмертно.) Несторий четко различал две природы, и строй его мыслей казался православным до того момента, как он отказался наименовать Пресвятую Деву Богородицей — «Феотокос» и предпочел употреблять вместо «Феотокос» термин «Христотокос» — «Христородица». Тогда благочестие простых верующих возмутилось и Несторий был посрамлен. Несторий не мог постигнуть тайну личности, он мыслил личность в терминах природы и, в конце концов, отождествлял одно с другим. Так, он противопоставлял Личность Слова личности Иисуса; они несомненно были для него связаны, но лишь нравственно, — изобранничеством, превратившим Иисуса как бы во вместилище Слова. В понимании Нестория только человеческая личность Христа родилась от Девы, и поэтому Она была Матерью Христа, но не Матерью Бога. Оба Сына — Сын Божий и Сын человеческий в Христе соединены, но они — не «одно».
Однако, если во Христе нет единства личности, значит наша природа не воспринята подлинно Богом и Воплощение уже больше не «физическое» восстановление. Если во Христе нет истинного единства, то нет и возможности соединения человека с Богом. Всё учение о спасении лишается рвоего онтологического обоснования: мы по-прежнему разлучены с Богом, обожение для нас закрыто; Христос — только лишь великий пример, а христианство сводится к учению нравственному, к подражанию Христу.
Единодушная реакция; благочестия на Востоке быстро покончила с несторианством, но сама мощь этой реакции породила противоположную ересь. Защитники единства Христа выражали его единство в терминах, относящихся к природе, притом к природе Божественной, природе Слова. В своей полемике против несториан св. Кирилл Александрийский выдвинул формулу: «одна природа воплотившегося Слова». У него здесь имела место простая терминологическая ошибка, что видно из всего контекста. Св. Кирилл остается православным. Но некоторые из его учеников восприняли эту формулу буквально: во Христе одна природа — Его Божество;, отсюда и само название этой ереси — монофизитство
170
(от μόνη — одна и φύσις — природа). Монофизиты не отрицали во Христе человечества как такового, но оно казалось им как бы поглощенным Его Божеством, как капля океаном. Человечество растворяется в Божестве или же испаряется при соприкосновении с Ним, как горсть воды, брошенная на горячие угли. «Слово стало плотью» — твердили монофизиты, но это «стало» было для них подобно превращению воды в лёд: оно было только видимостью, только подобием, ибо во Христе всё божественно. Так, Христос единосущен Отцу, но не людям. Он прошел через Деву, ничего у Нее не заимствовав, а только воспользовавшись Ею для Своего явления.
Как бы ни были многочисленны оттенки внутри монофизитстваг одно всегда оставалось общим для всех монофизитов: Христос — истинный Бог, но не истинный человек; в конечном пределе человеческое в Христе — только видимость; так монофизитство сводится к некоему докетизму.
И несторианство и монофизитство суть две проявившиеся в Церкви дохристианские тенденции, которые с тех пор не переставали угрожать христианству: с одной стороны — гуманистическая культура Запада, это наследие Афин и Рима; с другой — космический иллюзионизм и чистая самоуглубленность древнего Востока, с его Абсолютом, в котором всё растворяется (образ льда и воды — классическая для Индии иллюстрация соотношения конечного и бесконечного). С одной стороны, человеческое замыкается в самом себе, с другой — оно поглощается божеством. Между двумя этими противоположными искушениями Халкидонский догмат определяет по отношению ко Христу — истинному Богу и истинному человеку — истину Бога и истину человека, определяет тайну их единства без разлучения или поглощения. «Итак, последуя св. отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного по Божеству, совершенного по человечеству, истинного Бога, истинного человека, одного и того же, из разумной души и тела, единосущного Отцу по Божеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась, — не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа».
«Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» — так соединены две природы в Лице Христа, причем первые два определения направлены против монофизитов, два последние — против несториан. По существу все четыре определения негативны: ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως; они апофатически очерчивают тайну Воплощения, но запрещают нам представить себе «как» этой тайны. Христос — всецело Бог: Младенцем в яслях или умирая на кресте, Он не перестает быть причастным троичной полноте и в Своем вездесущии и могуществе управлять вселенной. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный», восклицает литургия св. Иоанна Златоуста. Ибо, с другой стороны, человечество Христа — это всецело наше человечество; оно Ему не присуще по превечному Его рождению, но Божественное Лицо создало его в Себе в лоне Марии. Итак, у Христа две воли, два разума, два образа действия, но они всегда соединены в одном Лице. В каждом Его действии присутствуют две энергии: энергия Божественная и энергия человеческая. Поэтому всегда останутся тщетными всякие попытки строить какую-то «психологию» Христа и воспроизводить в книгах «О жизни
171
Иисуса» Его душевные состояния». Мы не можем ни догадываться, ни вообразить (и в этом также смысл четырех отрицаний Халкидонской формулы) «как» Божество и человечество существовали в одной и той же Личности, тем более, — повторим еще раз, — что Христос — не «человеческая личность». Его человечество не имеет своей ипостаси среди бесчисленных человеческих ипостасей. У Него, как и у нас, тело, как и у нас — душа, как и у нас — дух, но ведь наша личность не есть этот «состав»; личность живет через тело, душу и дух, и за их пределами; они всегда только составляют ее природу. И если человек, как личность, может выйти из мира, то Сын Божий Своею Личностью может в него войти; потому что Личность, чья природа божественна, «воипостазирует» природу человеческую, как скажет в VI веке Леонтий Византийский.
Однако обе природы во Христе, не смешиваясь, обладают некоторой взаимопроникновенностью. Божественные энергии излучаются Божеством Христа и пронизывают Его человечество, отчего оно и обожено с самого момента Воплощения; так раскаленное железо становится огнем, и все же остается по своей природе железом. Преображение отчасти открывает апостолам это пылание божественных энергий, озаряющих человеческую природу Учителя. Это взаимопроникновение двух природ, проникновение Божества в плоть, и, отныне, навсегда приобретенная возможность для плоти проникновения в Божество, называется «перихорезой», περιχώρησις ἰες ἀλλήλας, как пишет св. Максим Исповедник, или, по-латыни, communication idiomatum. «Плоть, не утеряв того, чем обладала, стала Словом, отождествившись со Словом по ипостаси», — пишет св. Иоанн Дамаскин. Христос становится человеком по любви, оставаясь Богом, и огнь Его Божества навсегда воспламеняет человеческую природу; вот почему святые, оставаясь людьми, могут быть причастниками Божества и становиться богами по благодати.
(16) «ОБРАЗ БОГА» И «ОБРАЗ РАБА»
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2, 5—11).
В этом известном «кенотическом» тексте Послания к филиппийцам так определяется истощание Слова: будучи «образом Бога», μορφὴ Θεοῦ, то есть по самому положению Богом по природе, Христос обнажил, истощил, смирил Себя (ἐκένωσεν), приняв «образ раба» (μορφὴ δούλου). Крайним умалением, тайной Своего кенозиса (κένωσές) Сын Божий нисходит в положение не-бытийное (не в смысле первоначального «ничто», а в смысле той меонической бездны, которая разверзлась через грехопадение человека). Парадоксальным образом Он соединяет со всесовершенной полнотой Своей Божественной природы столь же всестороннюю «неполноту» падшей природы человеческой.
Этот текст из Послания к филиппийцам следует сближать с текстом Исаии о «муже скорбей», с его столь соблазнительным для многих израильтян пророчеством не о Мессии во славе, а о «рабе Иеговы» («раб Мой»), страждущем и уничиженном, безгласно и добровольно отдающем Себя в «жертву умилостивления», «изъязвленном за грехи наши» (Ис. 53).
Св. Кирилл Александрийский много размышлял над этим Божественным «кенозисом», над этим уничижением. «Бог, — говорит он, —
172
воплощаясь, не мог совлечь с Себя Своей природы, ибо тогда Он не был бы больше Богом, и нельзя было бы говорить о Воплощении. А это значит, что субъектом кенозиса является не природа, а Личность Сына. Личность же «совершается» в отдаче Себя: она отличается от природы не для того, чтобы «превозноситься» естеством, а чтобы от Себя всецело отказаться; вот отчего Сын «не почитал хищением быть равным Богу», по, напротив, «Сам уничижил Себя», что является не внезапным решением, не единичным актом, но проявлением самого Его существа как Личности; и это также не собственная Его воля, а сама ипостасная Его реальность, как выражение воли троичной, той воли, источник которой — Отец, послушное исполнение которой — Сын, славное завершение — Дух. Итак, существует глубокая неразрывность между личностным бытием Сына, как самоотказом, и Его земным кенозисом. Оставляя пребывание в славе, которой Он никогда не «превозносился», Сын принимает позор, бесчестие, проклятие; Он берет на Себя объективное состояние греховности, подчиняет Себя условиям нашей смертности; отказываясь от Своих царственных преимуществ, Он все глубже и глубже сокрывает свою славу в страдание и смерть. Ибо Ему надлежит обнаружить в Своей собственной плоти, насколько человек, которого Он создал по образу совершенной Своей красоты, обезобразил себя грехопадением.
Итак, кенозис — это Воплощение в его аспекте смирения и смерти. Но Христос полностью сохраняет Свою Божественную природу и Его истощание есть истощание вольное: пребывая Богом, Он соглашается стать смертным; ибо единственный способ победить смерть — это позволить ей проникнуть в Самого Бога, в Котором она не может найти себе места.
Кенозис — это уничижение раба, ищущего не собственной Своей славы, но славы пославшего Его Отца. Христос никогда, или почти никогда, не утверждает Своего Божества. В полном отказе от Себя, в сокрытии Своей Божественной природы, в отказе от всяческой Своей воли, вплоть до слов «Отец Мой больше Меня», Он осуществляет на земле дело любви Пресвятой Троицы. И по беспредельному уважению к свободе человека, показывая людям только скорбно братское Лицо раба и скорбно братскую плоть Распятого, Он пробуждает в человеке веру, как ответную любовь, потому что только глаза верующего узнают образ Божий под образом раба и, распознавая в лице человеческом присутствие Лица божественного, научаются во всяком лице открывать тайну личности, созданной по образу Божию.
Однако еще до того, как кенозис Христа закончился с Его Воскресением, в Его человечестве открылись два Богоявления: одно в момент Крещения, другое — во время Преображения. Оба раза Христос явил Себя не в «образе раба», а в «образе Бога». Он позволил Своей Божественной природе, то есть Своему единству с Отцом и Духом, просиять сквозь Свое обоженное человечество, потому что, по слову святого Максима Исповедника, Его человечество, тленное по домостроительству, было нетленным по естеству, по Божественной Своей природе. Глас Отца, присутствие Духа в виде облака или голубя превратили эти два явления «образа Бога» в два Богоявления Пресвятой Троицы. Кондак Преображения подчеркивает, что ученики видели Божественную славу «якоже можаху» для того, чтобы, «егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное», а не естественно неизбежное.
Оттого, что этот «свет Преображения не начинался и не кончался» (св. Григорий Палама), мы должны стать еще более чуткими к восприятию реальности кенозиса. Христос с момента Воплощения и «даже до смерти» добровольно и полностью взял на Себя последствия нашего греха. Он познал все немощи, все ограничения нашего существования, кроме разрушительных страстей, зависящих от нашей свободы. И Второй Адам, чтобы полностью стать «по образу» Адама первого, дал искусителю при-
173
близиться, но теперь уже не в раю, а в положении человека падшего. Н® только во Христе «недостаточность» становилась, не злом и ненавистью, а страданием и любовью; вот почему искуситель был отражен Тем, Кто носил в Себе большее, чем рай, — Тем, Кто есть Сущий.
(17) ДВЕ ЭНЕРГИИ, ДВЕ ВОЛИ
Определения Халкидонского Собора были направлены не только против несторианства и монофизитства; уточняя, что Христос как совершенный человек состоит из разумной души и тела, они имели в виду еще одну ересь — аполлинаризм.
Аполлинарий Лаодикийский, против которого боролись великие каппадокийцы, жил в IV веке. Он был типичным представителем Александрийской школы, утверждавшей во Христе прежде всего единство. За 80 лет до монофизитства, которое несомненно было в известной мере подготовлено его образом мыслей, Аполлинарий ставил вопрос о том, как примирить это единство с дуализмом в Нем Божественного и человеческого. По его мнению, не могло быть двух совершенных природ, ибо, согласной эллинистическому мышлению, в плену которого он всё еще находился, «два совершенных не могут стать одним совершенным»; два совершенных начала не могут соединиться, образовав третью природу, столь же совершенную. Или две эти природы не совершенны, или же их единство — только «сосуществование». Аполлинарий, в общем, ипостазировал обе природы и тем самым уже заранее опровергал несторианство, потому что вполне очевидно, что две личности, соединившись, не могут исчезнуть в третьей. Таким образом, единство Христа не является совершенным, а так как отнести несовершенство к Божеству нельзя, то Аполлинарий делал вывод, что человечество Христа, давая место Божеству, должно было быть несовершенным. Человек совершенствуется благодаря своему разуму; отсюда Аполлинарий заключал, что у Христа не было человеческого νους и единство Его было запечатлено тем, что человеческий ум уступил в Нем место Божественному Логосу. Так Логос присоединил Божество к несовершенному человечеству. Божество восполнило человечество. Таким образом, Христос Аполлинария был не столько Богочеловеком, сколько животной природой, соединенной с Богом. В этом уже коренился зачаток монофизитства, которое впоследствии непрестанно возвращалось к мысли, что человечество в Христе было неполным, а следовательно было восполнено, то есть поглощено Логосом.
В конечном счете, всё построение Аполлинария основано на отождествлении человеческой личности с νυῦς; в этом собственно и состоит великое искушение метафизиков: свести тайну личности к высшему составу нашей природы — интеллекту, к тому, что наиболее сродно метафизике, причем в этом отождествлении звучит нота известного презрения к чувственному и к телесному.
Халкидонский Собор смог избежать такой постановки проблемы благодаря различению между личностью (лицом) и природой. Это различение, утверждающее свободу личности по отношению к природе в ее целом, дало возможность утверждать и единство двух совершенных начал, — единство не уничтожающее, но подтверждающее «присущее каждой природе». Человеческая природа во Христе сохраняет всю свою полноту: она не умаляется, но совершается той личностью, которая ее «воипостазирует» и которая здесь — Личность не тварная, а Божественная. Логос не занимает места какого-либо из элементов человеческой природы: Он есть Лицо, которое воспринимает природу во всей ее полноте.
Итак, Христос — совершенный человек, одновременно и тело и разумная душа. Здесь слово «разумный» надлежит понимать в том именно
174
смысле, какой придавали ему отцы: «разумная душа» отождествляется с νοῦς, интеллектом, й отличается от одушевленного тела, в котором можно различить тело и живую душу. Так дихотомия Халкидона пересекается с традиционной трихотомией, которую мы находим у апостола Павла— делением на тело, душу и дух.
* * *
После Xалкидонского Собора появились новые формы монофизитства, которые, подчиняясь букве Символа веры, пытались по существу уничтожить его содержание. Эта длительная попытка лишить халкидонский догмат его «халкидонского духа» обусловливалась присущим всему восточному спиритуализму цепким монофизитским инстинктом, либо поисками — но мотивам преимущественно политическим — компромисса с действительными монофизитами. Первой причиной объясняется развившееся в конце V — начале VI века учение моноэнергизма; его последователи признавали две природы, но утверждали, что их действие, то есть энергия, в которой они проявляются, одно. В таком случае различение человеческого и Божественного превращается в чистую абстракцию: или обе природы смешаны, или же человечество совершенно пассивно и действует одно Божество.
Это учение опровергалось в VII веке многими отцами, в первую очередь Максимом Исповедником. Во Христе следует разуметь одновременно два различных действия и одну цель, один акт, один результат. Христос действует в двух Своих природах, подобно тому, как раскаленный в огне меч одновременно рассекает и сжигает. Каждая природа содействует в едином акте присущим ей способом. «Не человеческая природа воскрешает Лазаря, не божественная сила плачет над его гробом», — напишет позднее св. Иоанн Дамаскин.
* * *
Еще одной формой компромисса с монофизитством, и на этот раз компромисса сознательного, явилось монофелитство. Монофелитство также признавало существование во Христе двух природ, но только одну волю — Божественную, которой воля человеческая последовала вплоть до полного своего поглощения. Представители этого учения были в первую очередь ловкими политиками. Опорой его являлись охваченные монофизитством восточные провинции и стремление императора к единству. Три патриарха — Кир Александрийский, Сергий Константинопольский и Гонорий, папа Римский, приняли участие в разработке этой доктрины, в достаточной мере искусственной; может быть, один только Гонорий, над которым два других соавтора в большей или меньшей мере иронизировали, был искренен; впоследствии VI Вселенский Собор посмертно осудил его как еретика.
Св. Софроний, патриарх Иерусалимский, несмотря на свой преклонный возраст, успел перед смертью выразить протест против этой новой ереси. Затем выступили преемники Гонория — святые папы Мартин и Агафон. Но действительно спас Церковь простой монах, уже ранее выдвинувшийся как твердый противник моноэнергизма: это был св. Максим Исповедник. Вместе со св. папой Мартином он подвергся изгнанию. Папа умер в изгнании, а возвращенный в Константинополь Максим торжественно отказался присоединиться к тому компромиссу, на который, казалось, пошла вся Церковь: «даже если бы вся вселенная общалась с вами, я бы не общался», заявил он, черпая силу идти против всей иерархии в достоверности истины. Тогда он был жестоко искалечен и снова отправлен в ссылку, где и умер. Но его сопротивление спасло истину, которая вскоре восторжествовала во всей Церкви. Итак, для опровержения монофелитства достаточно проследить аргументацию св. Максима, заключающую в себе множество глубоких антропологических данных.
175
Как большинство ересей такого типа, монофелитство предполагало, что личность определяется одной из присущих ей способностей: в данном случае ипостаси приписывалась /воля.
В своем разъяснении проблемы двух воль во Христе св. Максим исходит из уже признанных данных триадологии. В Пресвятой Троице — три Лица и одна природа, но воля у Трех общая, она едина, следовательно, воля связана с понятием природы, а не с понятием лица, иначе следовало бы видеть в Троице три воли. Наши обычные понятия с трудом вмещают эту трансцендентность личности по отношению к своей (воле: все дело здесь в том, что понятия эти относятся только к индивидууму, который, конечно, присваивает себе волю, чтобы утверждать свое «эго». И здесь св. Максим очень тонко анализирует понятие «воли». Он различает две категории волений, первая., θέλησις φυσική, «воля природная» есть тяготение природы к тому, что ей подобает, «природная сила, тяготеющая к тому, что соответствует природе, сила, объемлющая все основные природные свойства». Природа в естественном своем состоянии, то есть состоянии, не искаженном грехом, может желать только добра, поскольку она — природа «разумная», то есть устремленная к Богу. Воля совершенной природы сознает добро и, следовательно, принадлежит добру. Но грехопадение затуманило это сознание; теперь природа тяготеет чаще всего к «противоприродному»; ее желания погрязают в грехе. Однако человеку дана и другая воля, θέλησις γνωμική, как воля, присущая личности. Это воля выбора, тот личный суд, которым я сужу природную волю, принимая ее, отвергая или направляя к другой цели, и, очищая её от греха, превращаю в волю подлинно естественную.
Пользоваться этой «волей суждения» обязывает нас возрастание истинной нашей свободы. Свободный выбор соответствует состоянию, в которое поверг нас грех; именно потому, что мы — в грехе, мы должны непрестанно выбирать.
Поэтому во Христе есть две естественные воли, но нет человеческого «свободного выбора». В Его личности не может быть конфликта между двумя природными волями, потому что эта личность не есть человеческая ипостась, которая, вкусив от рокового плода, должна непрестанно выбирать между добром и злом. Его Личность есть Ипостась Божественная, чей выбор был сделан раз и навсегда: выбор кенозиса, выбор безусловного послушания воле Отца.
Таким образом, человеческой природе во Христе присуща вся полнота, но то, что в человеке принадлежит личности, во Христе принадлежит Слову — Личности Божественной. Человечество, воспринятое этой Личностью, в каком-то смысле сходно с человечеством Адама до грехопадения. Но кенозис Слова есть также и кенозис этого райского человечества, подчиненного искупительной волей Спасителя объективным условиям греха, условиям, на которые воля эта отвечает не свободным выбором, а страданием и любовью. С другой же стороны, если воля Сына тождественна воле Отца, то человеческая воля, ставшая волей Слова, есть собственная Его воля, и в этой собственной Его воле содержится вся тайна нашего спасения.
(18) «ДВА» И «ОДНО» ВО ХРИСТЕ
Шестой Вселенский Собор, собравшийся в 681 году в Константинополе, разъяснил христологические определения Халкидонского Собора. Он вновь подтвердил единство Христа в двух природах и уточнил учение о двух природных волях во Христе, которые не могут противоречить одна другой, так как воля человеческая подчиняется воле Божественной — воле Бога. Ссылаясь на недошедший до нас труд св. Афанасия Великого, где дается толкование слов Христа: «Душа Моя теперь возмутилась... Отче!
176
избавь Меня от часа сего» (Ин. 12, 27), отцы Собора подчеркнул«, что в Воплощении человеческая воля есть собственная воля Слова. Таким образом, Сын обладает собственной волей и, следовательно, Его воля уже не является только волей Отца; тем самым создается как бы некое разделение между Сыном и Отцом. Всё домостроительство спасения зиждется на подчинении этой собственной воли Слова, человеческой Его воли, воле Отца. Потому что «воипостазированная» Словом человеческая воля не разрушается, подобно тому, как плоть Христа, хотя и обоженная, сохраняет всю реальность плоти тварной. И все же, — заключает Собор, — мы относим к одному и тому же Лицу как чудеса (сотворенные энергией божества), так и страдания ((перенесенные по человечеству)».
За этими определениями стоит антропология св. Максима, различающая волю естественную------------- θέλησις φυσική — и волю выбирающую — λέθησις γνωμική, которая есть не природное стремление, но возможность свободного решения и, следовательно, относится к категории личности. Воля выбирающая придает нравственному акту личностный характер. Но этой выбирающей воли нет во Христе, или, вернее, она существует в Нем как Божественная свобода; по отношению же к Богу нельзя говорить о «свободных решениях», потому что единственное решение Сына — это кенозис, принятие на Себя всех условий человеческого существования, совершенное подчинение воле Отца. Собственная воля Слова, Его человеческая воля подчиняется Отцу и по человечеству проявляет согласие нового Адама со Своим Богом, причем это не колебание между «да» и «нет», а всегда только «да», даже и сквозь «нет» ужаса и возмущения: «Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я пришел. Отче! прославь имя Твое» (Ин. 12, 27—28). «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39). Так само поведение Христа свидетельствует о свободе, хотя св. Максим и отрицает в Нем свободный выбор. Но свобода эта не есть непрестанный выбор, который нарушал бы цельность Личности Спасителя; она не представляет собой также и постоянной необходимости для Христа каждый раз сознательным выбором подчинять свою обоженную плоть таким потребностям нашего падшего состояния, как, например, сон или голод: мыслить так, значило бы превращать Иисуса в актера. Здесь свободой управляет личное, а потому и «единое» сознание Христа. Это — Его окончательный и неизменный выбор: взять на Себя всю ущербность нашего состояния, вплоть до последнего рокового конца — смерти. Этот выбор есть превечное согласие на полное, до последних глубин, приятие в Себя всего, что составляет наше положение, то есть нашего падшего состояния, и эти глубины суть — предсмертная тоска, смерть, сошествие в ад. В противоположность восходящей схеме «кенотических» учений, если и происходит развитие самосознания Христа, то в направлении нисхождения, а не восхождения. Действительно, в понимании «кенозистов» Христос непрестанно возрастает в сознании Своего Божества. Так, в момент Крещения Он якобы осознает, словно в некоей «реминисценции», что Он — Сын Божий. Но, читая Евангелие, мы видим, напротив, что самосознание Сына нисходит всё ниже и ниже, и всё больше проникается бедственностью человеческой. Его рождение от Девы было почти что райским явлением обоженной плоти; отрок Иисус, исполненный молчаливой мудрости, без труда побеждал ученых; первое чудо было чудом в Кане на браке. И вот затем всё более надвигается тот «час», на который и пришел Христос; для Него подлинный Крестный путь — это постепенное осознание Своего человечества, нисходящее постижение нашей бездны. Можно ли помыслить, что Слово осознавало Свое Божество? Но трагически необходимо, чтобы Оно осознало нашу погибель, как бы ее в себе суммировало. Потому что, принимая на Себя весь грех, давая ему в Себя — Безгрешного — войти, Христос его уничтожает. Мрак, окутывающий крест, проникает в такую чистоту, которую он не в силах затмить,
177
крестное же терзание — в такое единство, которого о:но не может расторгнуть.
Предсмертное борение Христа в Гефсиманском саду нередко удивляет и даже соблазняет. Св. Иоанн Дамаскин останавливается на нем: «Когда Его человеческая воля отказывалась принять смерть, а Его Божественная воля давала место этому проявлению человечества, тогда Господь, по человеческой Своей природе, был в борении и страхе. Он молился об избавлении от смерти. Но так как его Божественная воля желала, чтобы Его человеческая воля приняла смерть, то человеческое страдание стало для человечества Христа страданием вольным». Сын Божий Своей человеческой волей согласился на смерть как на следствие греха и плату за грех. Но в Нем не было «греховного корня», следовательно, Он не должен был вкушать и смертного плода. Человек же носит этот корень в себе, и смерть для него, можно сказать, «естественна», то есть биологически логична и психологически приемлема в том «ниже-природном» состоянии, на котором Бог остановил падение и утвердил некий закон — закон смерти. Так слово благоразумного разбойника, обращенное к разбойнику неблагоразумному, «мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал» — приобретает онтологическое значение. И благоразумный разбойник умирает легче, чем Христос. Христос же, когда Он соглашается принять ужасное последствие греха, когда в последних глубинах Своего нисхождения в наши меоничеекие бездны Он познаёт смерть, видит, как обоженный человек противится в Нем этому «противо-природному» проклятию. И когда собственная воля Слова, то есть Его человеческое естество, подчиняется, оно познаёт несказанный ужас перед смертью, ибо она Ему чужда. Один только Христос познал, что такое подлинная смерть, потому что Его обоженное человечество не должно было умирать. Один Он мог измерить всю меру агонии, потому что смерть овладевала Его существом извне, вместо того, чтобы, как роковая неизбежность, проистекать изнутри, вместо того, чтобы быть в Нем, как в человеке падшем, неустранимым стержнем бытия, смешанного с небытием, когда облекающая этот стержень плоть распадается от болезней и времени. И этой смертью безмерной, или, вернее, единственной измеренной, грех уничтожается и исчезает в Едином Лице Христа при соприкосновении со всесильным Его Божеством; ибо Искупление есть не что иное, как раскрытие Себя для предельного разлучения между человеком и Богом, совершенное Тем, Кто нераздельно оставался человеком и Богом.
(19) ИСКУПЛЕНИЕ
«Нам надо было, чтобы Бог воплотился и умер, дабы мы могли ожить», — пишет св. Григорий Богослов. А св. Афанасий Великий утверждает: «Если Бог родился и умер, то не потому Он умер, что родился, но Он родился для того, чтобы умереть». Действительно, роковая неизбежность смерти не коренилась в человеческой природе Христа, но само Его человеческое рождение уже вводило в Его Божественную личность элемент, который мог стать смертным. Воплощение создает как бы некое «расстояние» между Отцом и Сыном, некое пространство для свободного подчинения Слова, ставшего плотью, создает как бы духовное место Искуплению. Оставленностью, проклятием Невинный принимает на Себя весь грех, «заступает Собой» справедливо осужденных и за них претерпевает смерть. «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира», — говорит, повторяя пророка Исаию, Иоанн Креститель; это — кульминация всей жертвенной традиции Израиля, начавшейся с замененного овном жертвоприношения Авраамом Исаака. Здесь завершается также символика пленения, чаяния освобождения «остатка». Апостол Павел может те-
178
перь сказать: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою».
* * *
Искупление, самое средоточие домостроительства Сына, нельзя отделять от Божественного замысла в его целом. Он никогда не изменялся; целью его всегда оставалось совершенно свободное соединение с Богом личностных существ—людей и ангелов, ставших во всей полноте ипостасями космоса земного и космоса небесного. Божественная любовь хочет всегда одного свершения: обожения людей и через них — всей вселенной. Но после падения человека в исполнение Божественного замысла вносятся необходимые изменения — изменения не самой цели, а образа Божественного действия, Божественной «педагогики». Грех разрушил первоначальный план — прямое и непосредственное восхождение человека к Богу. В космосе открылся катастрофический разлом; надо уврачевать эту рану и «возглавить» потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново, — таковы цели Искупления.
Итак, Искупление представляется как бы негативной стороной Божественного плана: оно предполагает анормальную, трагическую «противо- природную» реальность. Было бы абсурдным замыкать Искупление в самом себе, превращать его в самоцель, ибо выкуп, ставший необходимым вследствие нашего греха, есть не цель, а средство, средство для достижения единственной истинной цели: обожения. И само спасение — момент только негативный: единственной существенной реальностью продолжает оставаться соединение с Богом. В чем был бы смысл спасения от смерти и ада, если бы оно совершилось не для полной отдачи себя Богу?
Таким образом, Искупление, занимающее свое определенное место в Божественном плане, определяется несколькими моментами, всё более и более раскрывающими полноту божественного Присутствия. Это, прежде всего, устранение радикальных преград, отделяющих человека от Бога, и, главным образом, того греха, который подчиняет человечество диаволу и делает возможным владычество падших ангелов над земным космосом. Освобождение плененной твари сопровождается, далее, восстановлением ее природы, которая снова становится способной воспринимать благодать и шествовать «от славы в славу», вплоть до уподобления, в котором она воспринимает природу Божественную и делается способной преобразить весь космос.
Безмерность этого подвига Христова, непостижимого, как говорит апостол Павел, для самих ангелов, не может заключаться в одном только объяснении или в одной только метафоре. Само понятие Искупления носит чисто юридический характер: это выкуп раба, долг, уплаченный за тех, кто, не имея возможности рассчитаться, оставался в заключении. Юридической является и тема Посредника, крестом соединяющего человека с Богом. Но оба эти образа, предложенные апостолом Павлом и широко использованные отцами, не должны застывать в нашем сознании: это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. Правильнее было бы включить эти образы в почти бесконечный ряд других образов, из которых каждый является как бы одним аспектом события, самого по себе неизреченного. В Евангелии перед нами встает образ и Доброго Пастыря, ищущего заблудшую овцу, и «крепкого мужа», побеждающего разбойника, его связывающего и отнимающего у него добычу, и женщины, нашедшей и очистившей потерянную драхму, на которой, скрытый пылью греха, начертан образ Божий. Основная тема литургических текстов, в особенности Страстной седмицы, это тема воина-победителя, разрушающего вражескую крепость, сокрушающего врата ада, в которые «победоносно вступают его знамена», — как пишет Данте. У отцов мы находим множество образов физического порядка — и образ огня очищающего, и, очень часто, образ врача, исцеля-
179
ющего раны своего народа: так, начиная с Оригена, Христос — Добрый Самарянин, врачующий и восстанавливающий израненную разбойниками, то есть демонами, человеческую природу. Наконец, тема жертвы — нечто гораздо большее, чем простая метафора: это — завершение символики, которая причастна предвозвещенной реальности — «крови Христовой», принесенной «вовек», как сказано в Послании к евреям, где этим образом дополняется и углубляется юридический символизм.
* * *
Добровольно заступив наше место, Христос «сделался за нас клятвой», пишет к Галатам ап. Павел. Это означает, что оставленность Христа на кресте была необходимой, потому что Бог удаляется от проклятого, от всеми покинутого и от всех отделенного. «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» Эта совершенно обнаженная тоска также имеет свою типологию, ибо последний вопль Распятого есть не что иное, как первый стих 21-го псалма, молитва страждущего праведника. Начало этого псалма — вопль человеческого отчаяния: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались». Затем следует знаменательное пророчество — пронзенные руки и ноги, разделенные ризы, за одежду брошенный жребий. Так по внутренней типологии страдания Христовы соответствуют и отвечают оставленности, агонии человеческой природы, опустошенной своим падением. И конец псалма — как благовестие Воскресения — воспевает торжество праведника и спасительное всемогущество Божие.
Если Христос обращается к этому псалму — значит, Он берет на Себя всё наше положение вплоть до того чувства богооставленности, которое познают умирающие, когда они умирают в вере: «не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет», когда они воспринимают смерть как переход, в котором сокрушается наша ограниченная, внешняя, греховная от рождения природа. Но в Слове, от века Отцу единосущном, нет ни разрыва, ни трагедии; поэтому, проникнув в Христа, разрыв и трагедия кончаются. «Когда Христос оставался добровольным пленником, смерть мучилась родовыми муками, — восклицает в одной из проповедей на Пасху св. Иоанн Златоуст, — она не могла сопротивляться, она разверзлась, она нас освободила». А св. Максим Исповедник так определяет искупительный подвиг: «Смерть Христа на кресте явилась судом над судом». Неосуществимое над Сыном Божиим проклятие становится благословением; через крест все условия греха становятся условиями спасения. Отныне ни грех, ни смерть не разлучат нас с Богом: ибо крещение погружает нас в смерть Христову для того, чтобы нас с Ним совоскресить; покаяние может всегда снова привести нас к Богу, а смерть, принимаемая как ежедневное покаяние, — открыть перед нами жизнь Божественную.
Проклятие смерти никогда не было со стороны Бога «судебным преследованием». Смерть была наказанием любящего Отца, а не тупым гневом тирана. Она исправляла и поучала. Она препятствовала увековечиванию расколотой жизни, была помехой беспечному пребыванию в противо-природном положении. Она не только полагала предел распаду нашей природы, но через присущую ей смертную тоску помогала человеку войти в сознание своего положения и повернуться к Богу. Также и неправая воля сатаны могла проявиться только с правого соизволения Божия. Произвол сатаны был не только ограничен Божественной волей, но и использован ею, что мы и видим в истории Иова.
Итак, ни смерть, ни господство сатаны никогда не были чисто негативными. Они уже были знаками и средствами Божественной любви.
Но в момент Искупления демонские силы теряют свою власть, и в отношениях между Богом и человеком происходит изменение. Можно было бы сказать, что Бог изменяет Свою педагогику: Он отнимает у сатаны право господства над человечеством; грех уничтожен, владычество лука-
180
вого сокрушено. Поэтому слово «выкуп» приобретает теперь другое значение: это — отданный диаволу долг, как подчеркивается в святоотеческой литературе первых веков. Бог дал диаволу власть, но потом отнял ее за то, что он превысил свои права и напал на неповинного. Ириней, Ориген, Григорий Нисский показывают, как сатана, хотевший завладеть единственным человеческим Существом, над Которым он не имел власти, справедливо лишился всякой власти. Некоторые отцы, в особенности св. Григорий Нисский, предлагают нам символ «Божественной хитрости»: человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке Его Божества. Диавол бросился на жертву, но крючок пронзил его: он не может поглотить Бога и умирает.
Долг, уплаченный Богу, и долг, уплаченный диаволу: два эти образа полноценны лишь вместе взятые, для обозначения в существе своем непостижимого деяния, которым Христос вернул нам достоинство сынов Божиих. Богословие, обедненное рационализмом, не принимает этих предложенных отцами образов и неизбежно теряет космологическую перспективу подвига Христа. Но мы должны, напротив, расширять наше понимание Искупления. Ведь в нем отнимается власть не только у демонов, но, в каком-то смысле, и у ангелов: во Втором Адаме Сам Бог непосредственно соединяется с человечеством, приобщая его к Своему безмерному превосходству над ангелами. Искупление есть реальность величайшая, распространяющаяся на всю совокупность космоса как видимого, так и невидимого. «Суд над судом» примиряет падший космос с Богом. На Кресте Бог простирает руки человечеству, и, как пишет св. Григорий Богослов, «несколько капель крови восстанавливают всю вселенную».
* * *
Диавол был сокрушен, но его права, так сказать, остались при этом не умаленными. Закон смертной природы отменен, но при этом нисколько не умалено и Божественное правосудие. Не следует, действительно, представлять себе Бога ни конституционным монархом, подчиняющимся какой- то Его превосходящей справедливости, ни тираном, чья фантазия — закон в(не всякого порядка и объективности. Справедливость — не какая-то абстрактная превосходящая Бога реальность, а одно из выражений Его природы. Так же как Бог творит свободно, но проявляет Себя в строе и красоте творения, Он проявляет Себя и в Своем правосудии: Христос, Который есть Само правосудие, подтверждает во всей полноте правосудие Бога. Для Сына дело не в том, чтобы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение не менее бесконечной мстительности Отца. «Почему, — спрашивает Григорий Богослов, — почему кровь Сына была бы приятна Отцу, Который не захотел принять Исаака, принесенного в жертву Авраамом, но заменившему эту человеческую жертву овном?»
Христос не чинит правосудия, но его являет: Он являет то, чего Бог ждет от творения — полноту человечности, «человека максимального», по выражению Николая Кузанского. Он исполняет то призвание человека, которому изменил Адам: жить только Богом и Богом питать вселенную. Таково правосудие Бога. Сын, единосущный Отцу по Своей Божественной природе, через Воплощение получает возможность вершить это правосудие; ибо Он может теперь подчиниться Отцу, как если бы Он был от Него отделен; может отказаться от собственной воли, которую Он получил в Своей человеческой природе, и отдать Себя всецело, даже до смерти: «да прославится Отец в Сыне». Правосудие Бога в том, чтобы человек не был больше разлучен с Богом, чтобы человечество восстановилось во Христе, истинном Адаме. И Григорий Богослов заключает: «Не очевидно ли, что Отец принимает эту жертву не потому, что Он ее требовал или как-то в ней нуждался, но по домостроительству нужно было, чтобы человек освятился человечеством Бога, нужно было, чтобы Сам Он осво-
181
бодил нас, победив тирана собственной Своей силой, чтобы снова Бог призвал нас к Себе через Своего Сына, Посредника, всё совершающего во славу Отца, Которому Он во всем послушен... Остальное же да будет почтено молчанием».
(20) ВОСКРЕСЕНИЕ
Отец принимает жертву Сына «по домостроительству»: «нужно было человеку освятиться человечеством Бога» (Григорий Богослов, Слово 45-е на Св. Пасху). Кенозис доходит до своего крайнего предела и завершается смертью Христа, чтобы освятить все условия человеческого бытия, включая и самую смерть. «Cur Deus homo?» (Почему Бог стал человеком?). Не только по причине нашей греховности, но и ради нашего освящения, чтобы включить все аспекты нашей падшей жизни в жизнь истинную, ту, что никогда не знает смерти. Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить.
Поэтому дело Христа — реальность физическая и, следует даже сказать, биологическая. На Кресте смерть поглощена жизнью. Во Христе смерть входит в Божество и в Нем испепеляется, ибо «не находит себе в Нем места». Итак, Искупление есть борьба жизни со смертью и победа жизни. Человечество Христа — это начаток новой твари; через Его человечество сила жизни вторгается в космос, чтобы его воскресить и преобразить конечной победой над смертью. После Воплощения и Воскресения смерть не спокойна: она уже не абсолютна. Всё теперь устремляется к ἀποκατάστασις τῶν πάντων («восстановлению всяческих») — то есть к полному восстановлению всего, что разрушено смертью, к осиянию всего космоса Славой Божией, которая станет «всё во всем»; из этой полноты не будет исключена и свобода каждой человеческой личности, которой будет даровано Божественным светом совершенное сознание своей немощи.
Итак, юридический образ Искупителя должен быть дополнен образом жертвенным. Искупление — это также та жертва, которую приносит Христос, согласно Посланию к евреям, как великий «иерей во век по чину Мелхиседекову», завершающий на небесах дело, начатое Им на земле. Крестная смерть — это новозаветная Пасха, соделавшая реальным всё то, что символизировала Пасха еврейская. Ведь в освобождении от смерти и введении человеческой природы в Царство Божие осуществляется единственно истинный исход. Конечно, этот отказ от собственной воли, на который не смог согласиться Адам, есть жертва искупительная; но прежде всего это таинство по преимуществу, свободный дар, в котором Христос приносит Богу, вместе со своим человечеством, начатки творения; она — то деяние, завершить которое должно будет новое человечество в безмерном священнодействии, первоначально возложенном на Адама: принесение в дар Богу всего космоса, как вместилища благодати. Воскресение изменяет падшую природу, оно открывает дивную возможность — возможность освящения самой смерти; отныне смерть уже не тупик, а дверь в Царство. Нам возвращена благодать; и хотя мы носим ее в себе как в «скудельных сосудах», как во вместилищах еще смертных, однако в самой хрупкости нашей таится теперь сила, побеждающая смерть. Спокойная уверенность мучеников, которые не ощущали не только страха, но даже и физической боли, свидетельствует о том, что отныне христианину доступно действенное сознание Воскресения.
Св. Григорий Нисский замечательно выразил этот сакраментальный аспект Страстей. Христос, говорит он, не стал ждать, когда Он будет вынужден к Своей жертве предательством Иуды, злобой священников неразумием народа; «Он предварил эту волю зла, и до того, как был к тому вынужден, вольно отдал Себя накануне Страстей, в Великий Чет-
182
верг, даровав Свою плоть и кровь». Здесь свободно совершилась жертва Агнца, закланного до создания мира. Страсти Христовы начинаются с Великого Четверга и в совершенной свободе.
Вскоре после этого — Гефсимания, затем Крест. Смерть на Кресте есть смерть личности Божественной: претерпеваемая человечеством Христа, смерть сознательно выстрадана Его превечной Ипостасью. И разлучение души с телом — основной признак смерти — также происходит в Богочеловеке. Душа, сходя во ад, пребывает «воипостазированной» в Слове, так же как и висящее на Кресте Его тело. Ведь и человеческая личность одинаково продолжает пребывать как в своем теле, возвращенном земле, так и в своей душе: поэтому мы и почитаем мощи святых. Тем более верно это в отношении Христа: Его Божество пребывает одновременно и в теле, которое почивает во гробе сном Великой Субботы, и в душе, которая победно сокрушает врата ада. Действительно, может ли смерть разрушить эту Личность, которая претерпевает ее со всем ее трагическим распадом, если Личность эта Лицо Божественное? Вот отчего в смерти Христа уже присутствует Воскресение. Жизнь бьет ключом из гроба, она явлена смертью Христа и в самой Его смерти. Человеческая природа торжествует над состоянием противо-природым, ибо природа эта вся целиком сосредоточена во Христе, Им, по слову св. Иринея, возглавлена: Христос — Глава Церкви, то есть того нового человечества, в лоне которого никакой грех, никакая враждебная сила не могут больше окончательно отлучить человека от благодати. Каждая человеческая жизнь всегда может возобновиться во Христе, как бы ни была она отягчена грехами; человек всегда может отдать свою жизнь Христу, чтобы Он вернул ее ему свободной и чистой. И это дело Христа простирается на всё человечество за видимыми пределами Церкви. Всякая вера в торжество жизни над смертью, всякое предчувствие Воскресения—косвенно являются верой в Христа: ибо одна только сила Христова воскрешает и воскресит мертвых. После победы Христа над смертью Воскресение стало общим законом твари — не только человечества, но и животных, растений, камней, всего космоса, потому что каждый из нас его возглавляет. Мы крещаемся в смерть Христову, погружаемся в воду, чтобы вместе с Ним совоскреснуть. И для души, омытой слезами, как крещальными водами, и объятой огнем Духа Святого, Воскресение — это не только чаяние, но уже и присутствующая реальность: парусия начинается в душах святых, и поэтому св. Симеон Новый Богослов смог написать: «Для тех, кто стал чадами света и сынами грядущего дня, для тех, кто всегда ходит в свете, никогда не придет день Господень, потому что они уже с Богом и в Боге». Бескрайний океан света изливается от воскресшего тела Спасителя.
183
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
